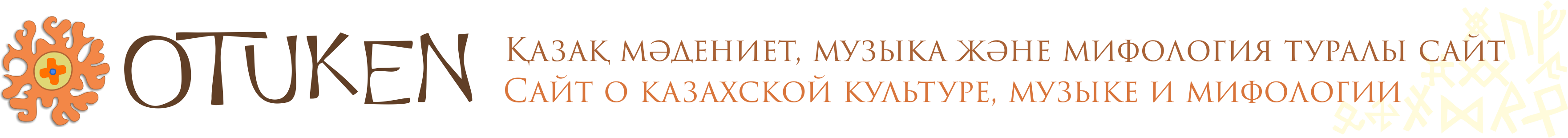Зира НАУРЗБАЕВА
27 июля 1537 года на восточном берегу Иссык-Куля в местечке Сан-Таш в битве, длившейся с раннего утра и до поздней ночи сошлись две огромные армии. Уступавшее по своей численности в несколько раз объединенной армии узбеков и моголов казахско-киргизское войско полегло в той битве до единого. Погиб и главнокомандующий объединенной армией казахский хан Тогым, а вместе с ним 37 султанов-чингизидов, ведших свою родословную от ханов Керея и Джанибека. Среди них 9 малолетних сыновей хана Тогыма…9 сыновей, 9 знаменщиков, прозванных в народе “девятеро светлых”. Род хана Тогым пресекся полностью. Погибнуть в битве за Родину – счастье для воина. Но уйти, не оставив потомства, для кочевников трагедия едва ли не космического масштаба, нарушение божественного порядка. В истории известны случаи, когда хозяин юрты приводил свою дочь к умирающему в его доме воину, если узнавал, что тот – последний в роду. Что чувствовал хан Тогым, ведя в обреченное по неравенству сил сражение всех своих сыновей, не достигших совершеннолетия даже по степным понятиям, по которым в 13 лет подросток – хозяин очага, семейный человек?
Как нам понять наших предков, нам, не знавшим святое для казахов имя хана Тогыма, нам, выросшим на анекдотах и рождественских сказках о “самом человечном из людей”? От цинизма и бытовых неурядиц заскорузлым нашим душам как вместить 400 лет героической истории, 400 лет непрерывных битв одновременно по всем четырем направлениям за свободу, за право самим выбирать свой образ жизни? 400 лет, когда и для ребенка, и для 90-летнего старика, и для державного властителя равно желанным было право и честь умереть на поле боя за свой народ. Прекрасная и трагичная история, в которой великая жертва хана Тогыма – лишь один из многих эпизодов, встает перед читателями “Азбуки казахской истории” М.Магауина. И одна из лучших глав этой истории посвящена хану Аблаю.
Нам, выросшим в советское время, сложно принять тот светлый образ, который веками бережно хранила народная память, трудно понять и действия хана Абульмамбета, взявшего соправителем 20-летнего простого воина Абульмансура, назначившего его главнокомандующим, а через несколько лет отдавшего вместо него калмыкам в качестве заложника своего родного сына султана Абульфеиза. Оказавшиеся на грани уничтожения казахи узнали и с благодарностью приняли посланного им божественным провидением спасителя. Они называли его “святым Аблаем”, “Аблаем, осушившим слезы вдов и детей”. В этом признание не только военных и политических заслуг Аблая перед Казахской Ордой, которую он силой своего духа сотворил заново, но и любовь народа к полководцу, в сердце которого вмещалась не только любовь и жалость к каждому казаху, но и жалость к врагу. Придя а этот мир в кровопролитнейший век казахской стории, он должен был быть беспощадным, чтобы остановить войну, превратившуются в геноцид казахов. Но как государственный деятель он избегал необязательных жертв; как степняк в соответствии с древним кодексом чести он был полон уважения к сильному противнику; как человек, от Бога наделенный даром предвидения, он с болью видел, как сила истории влечет к гибели родственный казахам народ.
Любовью к своему народу, благодарностью к воинам, умиравшим с именем хана, наполнены последние мгновенья Аблая. Рассказывали, что на пороге смерти, когда казахи видят души самых близких покойных, Аблай воскликнул: “Где вы, мои батыры?” И тогда вся казахская земля, спасенная Аблаем, поднялась, и из могил восстали, приветствуя своего господина, его воины. Когда-то нам позволено было знать те строки Бухара-жырау, в которых он обличал ошибки Аблая. Но какой любовью и благодарностью наполнены слова 113-летнего великого поэта, обращенные к своему умершему хану:”Кто, если не ты, достоин увидеть лик Всевышнего”. Таковы казахская эсхатология и казахское сатори, единственно возможные в такой кровопролитной истории.
Название “Смерть Кокбалака” отсылает читателя к кюю Байжигита “Кокбалак”, посвященному боевому коню Аблая, и к одноименному роману М.Магауина, а также к его эссе “Патриарх кюя Байжигит”. В романе имя Аблая по известным причинам ни разу не упоминается. Роман посвящен всем хранителям казахской музыкальной традиции, и в особенности прототипу главного героя романа домбристу Жунисбаю Стамбаеву, через войны и сталинские лагеря пронесшему традицию аркинского шертпе-кюя и передавшего ее своему внуку Таласбеку Асемкулову. В цепи ученической преемственности этой школы, корнями уходящей в средние века, особое место занимает создавший около 300 кюев личный домбрист хана Аблая – Байжигит. В сборнике документов о казахско-русских отношениях М.Магауин разыскал отчет генерала Шпрингера, в котором упомянут Байжигит – доверенное лицо и советник Аблая. Русский генерал не указывет, идет ли речь о музыканте, но вряд ли в ближайшем окружении Аблая был второй Байжигит, о котором устная степная историография ничего не говорит. Высокий статус в ханской ставке вышедшего из простого народа великого композитора вполне понятен. “Кюй – это шепот Тенгри”, — считали казахи и преклонялись перед кюйши, способными слышать неслышный для обычного человека голос Всевышнего, изначальное молчание, из которого был создан мир.
Кочевникам всегда был присущ культ лошади. Но каким должен быть конь, чтобы сложить о нем кюй, ставший символом борьбы и победы в 200-летней войне, кюй, пронесенный через три века нескончаемых войн, восстаний, унижений, голода, преследований музыкантов, наконец? Если лошадь в традиционной культуре была символом высшего разума, высших способностей, небесного мира, и если в тенгрианстве признается наличие у животных, как и у человека, бессмертной души, равенство их перед Всевышним, нет ничего странного в том, что казахи почитали не просто боевого коня хана-спасителя, но видели в Кокбалаке святого коня, просветленную духовную сущность, сберегавшую Аблая, а значит и весь народ в трудную годину.
“Все мы созданы из огненного тела Тенгри, и все мы вернемся в огонь”, — говорит Аблаю старый конюх. Важно, что эту глубоко эзотерическую фразу произносит именно конюх. Для нас более привычна формулировка аврамических религий, утверждающая, что из огня были созданы ангелы, а человек – из глины. Но тенгрианство как несравненно более древняя традиция хранит отголоски золотого века, которые слышны и в “Ведах”, и в мифологии южноамериканских индейцев, и в нартовском эпосе, и в ирландских сагах… Казахи поклонялись огню и очищались огнем. Человек, совершивший проступок, должен был проскакать через огромный костер. Если он оставался жив, значит, Тенгри простил его, человек заново родился из огня. Когда в старину аул начинал кочевку, все – люди, скарб, скот – проводились (очищались) между двух костров. Не очищали лишь лошадей. Считалось, что они созданы из стихии огня, и потому темные силы не могут к ним приблизиться. Вообще для казахов, как и для индоарийских народов, солнечным, огненным символом, жертвенным животным был баран (ср. ведического бога Агни и рус. “огонь”, “ангел”, агнец”). Но лошадь символизировала не плотный огонь срединного мира, но огонь небесный, божественный, огонь духовный. Восставший из погребального огня огненный Кокбалак символизирует дух воинов, умерших за родину. Аблай и его батыры – плотью из глины, из железного века, но духом они из божественного огня, из века золотого.
Киноповесть основывается на реальных исторических фактах, передает психологию того героического времени. В этом смысле ключевым является эпизод пленения Аблая. Как воину, Аблаю легче сражаться до конца и погибнуть вместе со своей дружиной. Но как государственный деятель, он верит в свое высокое призвание, готов пойти на позор пыток и смерти в плену в надежде продолжить свою борьбу. Момент, когда Аблай видит смерть сотника Бисата, убирает саблю в ножны и садится, положив на колени голову умирающего батыра, — решающий. Фактически Аблай жертвует своей честью воина ради будущего своего народа и ради памяти погибших за него. Всего этого не понимают торжествующие победители, не понимает и растерянный свидетель позора своего господина Маддахия. Лишь в следующем эпизоде, когда Аблай властно приказывает Маддахие не выдавать своего ужаса и не позорить тем самым хана, воин понимает, что Аблай не сломлен, и что их борьба только начинается.
“Смерть Кокбалака”, написанная традиционным домбристом, выстроена в соответствии с сакральным законами кюя, мифологического “вечного настоящего”, которое, если вслушаться, живет в нас, в нашем сознании, так же, как никогда не останавливает своего священного бега Кокбалак, и никогда не умолкает кюй Байжигита.
(“Простор”, 2002, № 5)