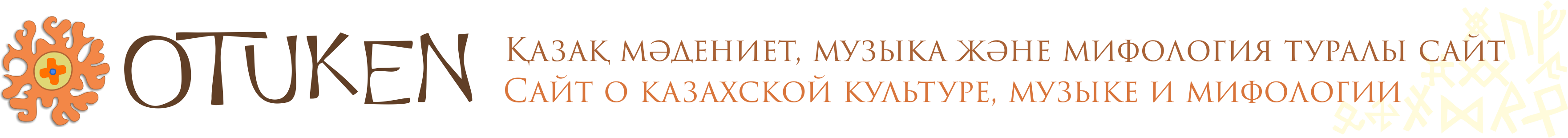Зира НАУРЗБАЕВА
Пока киношная тусовка озабочена талгарской перспективой и грядущим фестивальным сезоном, простой зритель опять задается вопросом: «На кой нам все это?» В частности, как долго из госбюджета будут финансироваться «амбициозные» проекты – заведомо убыточные, к тому же ни душу, ни сердце этого самого зрителя не греющие. И в первую очередь речь идет о наиболее затратных «исторических» лентах.
Нет, мы все понимаем – идеология, поиск национальной идентичности и пр. тонкие материи. Тут уж не до меркантильных соображений. Но насколько эти самые «исторические» фильмы казахфильмовского розлива работают на высокие цели? «О мертвых или хорошо, или…» Поэтому обратимся к наиболее значимой премьере последнего периода – фильму «Кек» («Месть»), имевшему след за «Кочевниками» хоть какой-то прокат, получившему неожиданно высокую оценку русскоязычной прессы. Тем более лента снималась по мотивам выдающегося произведения казахского классика, писателя мирового уровня (без шуток и иронии) Абиша Кекильбаева «Кюй».
Сценарий был создан Смагулом Елубаевым (в соавторстве с режиссером Д.Манабаевым) – известным писателем, профессиональным сценаристом (с московским дипломом в кармане), журналистом, одним из ярких борцов за казахский язык и национальные духовные ценности. С.Елубаев (ныне главный редактор «Казахфильма») – один из немногих казахских писателей, неасфальтных, что называется «от сохи», знающий английский язык и много лет проведший на Западе в качестве журналиста. Такой интересный и редкий у нас синтез национального и мирового опыта позволял надеяться увидеть нечто…
Интересно было узнать, как кинематографисты смогли средствами киноязыка передать сложное содержание повести «Кюй», в центре которой внутренний мир туркменского батыра Жонейта (имя это отсылает к личности знаменитого хана-объединителя туркменских племен), происходящая в его сознании борьба между усвоенными с молоком матери представлениями о чести, долге мести, мужском поведении, презрением к к музыке, как постыдному для мужчины занятию и впечатлением от кюя (традиционной инструментальной пъесы) пленного казаха. В центре повести реальный эпизод из жизни мангистауского кюйши 19 века Абыла. Во время ожесточенной войны адайцев и туркмен Абыл попал в плен к туркменам и будущая участь его представлялась незавидной – в лучшем случае рабство. Но покоренные музыкой Абыла враги отпустили его из плена.
Писатель ради достижения своих художественных целей изменил финал легенды. В повести одержимый чувством мести Жонейт, подавив в себе пробужденное музыкой добро, приказал казнить кюйши. Но сыгранный казахским пленником кюй и его достойная смерть перевернули сознание туркменских воинов. Верные хану аламаны больше не могут смотреть друг на друга и на своего вождя. Для Жонейта все утратило смысл, отныне все его мысли и чувства посвящены казненному, внутренняя борьба приводит хана к смерти. Казненный музыкант победил, пробудив во вражеских воинах давно забытые чувства любви и милосердия. Историю Жонейта у А.Кекильбаева рассказывает племянник хана, ставший не воином, а музыкантом, исполнителем последнего Кюя пленника.
Настораживало одно: повесть А.Кекильбаева называется «Кюй». То есть повесть, упрощая, о великой облагораживающей силе искусства и о жестоких воинах, склонивших голову перед силой искусства, силой духа. Фильм же называется «Месть», и газеты писали о вечной истории Ромео и Джульетты в казахском варианте. Хотя, казалось бы, должны были выстраиваться другие ассоциации, с «Пианистом» Р.Полански, например. Ну что же, любовь так морковь, если без этого никак нельзя в современном фильме для массового зрителя (хотя Полански обошелся), – подумали мы и купили диск.
Увы, оказалось, что в стремлении соответствовать воспитанным на нелучших голливудских образцах вкусам современного зрителя (кто эти вкусы действительно изучал?) авторы фильма ничего, кроме мотива о попавшем в плен музыканте, от литературного источника не оставили.
Нет смысла останавливаться на многочисленных несуразностях и нелогичностях сюжета, этнографических «находках» (хотя двухколесную арбу, в которую запряжен ослик, на котором кто-то едет верхом, а еще кто-то впрягся и тащит арбу на пару с осликом, трудно забыть, и возникают ассоциации уже с построениями незабвенного маркиза де Сада), режущих своей «неказахскостью» даже ухо современного казаха интонациях и репликах.
Все это «мелочи», главная неудача фильма связана с его концепцией. «По голливудским стандартам выстроенный» фильм должен обязательно иметь: во-первых, ту самую морковь, во-вторых, конфликт, противоборство двух сил. Внутренний конфликт туркмена Жонейта (то, что в исламе называют «великий джихад» и противопоставляют «малому джихаду» – борьбе с внешним злом) оказался авторам фильма не по зубам. С учетом исходного материала (война двух кочевых народов и плененный музыкант) само собой выстроилась схема: казахи (адайцы) и туркмены – Монтекки и Капуллети, казахский музыкант любит туркменку.
Эта «напросившаяся» в гости к сценаристам схема начала хозяйничать в соответствии с казахской поговоркой «У плохих хозяев дома заправляют гости». Кровопролитная и протяженная адайско-туркменская война, в результате которой казахам, в частности, достался нефтеносный Мангышлак, превратилась в бессмысленный конфликт двух враждующих кланов провинциального городка Вероны, конфликт на почве кровавой мести. В любой войне присутствует мотив мести, а в любом конфликте – борьба за жизненное пространство. Но, согласитесь, война, в которой адайцы не только захватили (или вернули) Мангышлак, но и северную Туркмению, через северный Иран прорубили коридор в Сирию, война, в которую вмешались обеспокоенные великие империи, и внутригородской конфликт двух дворянских домов – разные вещи. В конце концов нефтедоллары, из которых оплачен фильм, появились у казахов именно благодаря жертвам и победам адайцев.
Могут сказать, что именно недостаточный бюджет фильма стал источником такого недоразумения (хотя компьютерная программа «Массив», превращающая взвод в легион, стоит дешевле джипа в масле и вполне по карману «Казахфильму»). Но это не так. Сама концепция фильма требовала показать эту войну как досадный глупый конфликт на почве личной мести. Иначе слишком многое провисало. Бессмысленной оказывалась речь святого, призывающего примириться тут же, у его обители (привет герцогу Вероны). Непонятным стало бы промедление отца главного героя Ершоры, из-за которого плененный музыкант успел таки превратиться в манкурта.
Вообще, непонятно, как это известный батыр и глава рода, каким предстает отец Ершоры в начале, в финале в течение недели не может собрать пару десятков адайцев для освобождения сына и вынужден встать на колени перед несостоявшимся сватом. Во времена Казахской Орды за неделю можно было поднять весь народ. А уж сотню-другую всадников любой мало-мальски авторитетный батыр собрал бы максимум за час (вспомним столкновения казахских рабочих с турецкими на Мангышлаке). Да и сватовство выглядит до невозможного глупо. О сватовстве казахи говорят, что оно от Бога (кудалык Кудайдан), что это союз на тысячу лет (куда мынжылдык) и пр. Обычно до последнего момента будущий союз подготавливался через посредников, с использованием иносказаний и намеков, именно, чтобы не задеть ничьих амбиций, не оскорбить ничьей чести. А тут несостоявшийся тесть избивает жениха, связывает его и бросает в темницу, угрожает свату – тоже вроде бы не последнему человеку.
Ладно, это все из разряда «мелочей». Вернемся к расхозяйничавшейся схеме. Для этой схемы, в общем-то, неважно было, уподобят ли адайцев к Монтекки. Но бессмысленность конфликта позволяла представить главного героя эдаким голубем мира (голливудские учебники по сценарному мастерству требуют, чтобы главный герой был максимально симпатичен зрителю. Самый простой способ – показать его белым и пушистым, а его окружение – монструозным). И вот уже тонкая музыкальная натура призывает отца к примирению с врагом. Разумеется, это было бы невозможно, если бы речь шла о настоящей войне за жизненные интересы. В рамках советской цензуры и А.Кекильбаев вынужден был характеризовать эту войну подобным образом, но в повести туркменский дутарист – сын Жонейта, несмотря на пацифистские настроения, несмотря на дружбу с казахскими музыкантами, берет в конце концов в руки оружие и отправляется в набег, потому что речь идет не только о мести, но и о земле предков.
И еще, банальная схема, чтобы замаскировать (или оправдать) свою банальность, требует чего? Экзотики, национальной специфики, короче, всякого разного антуража. Одни ради этого придумывают секс верхом на лошади, другие – родовые схватки в обнимку с копьем. Литературный источник и личность сценариста – борца с манкуртизмом – позволяли надеяться, что в этот раз наш кинематограф сойдет с наезженной «чернушной» колеи и покажет красоту национального духа и всепобеждающую силу искусства.
Но… чуда не произошло. Вместо изящных веронцев перед зрителем предстали дикие и грязные, кровожадные варвары – туркмены и казахи, ведь враги всегда достойны друг друга. У А.Кекильбаева воюющие стороны – совсем не ангелы, это ожесточившиеся от многовековой вражды, способные закопать врага живьем в могилу или превратить пленных подростков в манкуртов воины. Но у них есть свои представления о чести, и «находки» соавторов сценария в эти представления никак не помещаются. Воин и будущий глава рода походя вырезает семью соплеменников, ставших свидетелями его поражения. Благородная девица злорадствует над избитым и связанным несостоявшимся женихом, туркменский воин из ревности срывает одежды со своей названной сестры и невесты, предлагая своим спутникам (тоже родичам девушки) устроить групповое изнасилование (при этом он все еще планирует жениться на ней) и т.д., и т.п. Одно слово – «дикий народ эти аборигены».
У зрителя все еще живет надежда, что все эти страсти нагнетаются ради неожиданного и прекрасного финала (в соответствии с исторической правдой и литературным источником), что вся эта грязь ради рывка в небо, что нас ждет катарсис. Но нет, туркменский «монстр» недрогнувшей рукой разбивает домбру, рассказавшую о его боли и его мечте, и зовет палача. Мучительная пытка превращает музыканта в животное, все остальное – закономерно: разбитая любовь, бессмысленная смерть от случайной стрелы, бессмысленная драка в пыли и финальные вопли девушки: «О, несчастный, несчастный…»
У Шекспира смерть влюбленных примиряет враждующие кланы. «Нет повести печальнее… И прекраснее, невольно добавляет про себя читатель и зритель. В казахском фильме враждебные роды не приносят тела к порогу герцога, пардон, святого отшельника. Святой покидает свою обитель. Не осталось ничего – ни любви, ни святости, ни искусства.
Бессмысленная жизнь. Насчастный народ. Вот итог фильма и его концепция. Видимо, такова предлагаемая нам национальная идея, национальная идентичность. И не оправдать это никакими голливудскими схемами, никакими зрительскими низменными вкусами. Если заведомо известно, что фильм неокупаем, что испорченный Голливудом, Болливудом, бразильским сериалом и узбекским кино зритель не пойдет на казахский фильм, то либо вообще не надо снимать, или уж если снимать, то как исповедь, как символ веры.
PS. Пояснение к заголовку. В самых неподходящих местах кто-нибудь из персонажей (святой или вдруг охваченная боевым пылом девушка) затевает страстную речь, держа нож у горла какого-нибудь другого персонажа. Надо полагать, это национальный вариант нагнетающего напряжение в голливудских фильмах приставленного к виску пистолета.