
Зира НАУРЗБАЕВА
«Прекрасное – это та часть ужасного,
которую мы можем вместить».
Р.-М. Рильке
Музыкант и исследователь традиционной культуры Таласбек Асемкулов утверждает, что казахское профессиональное искусство – музыкальное и устнопоэтическое – является одним из выдающихся феноменов в истории мировой культуры не только по своему cодержанию и уровню, но и по генезису, т.к. это искусство в большей части создано воинской кастой, воинами по происхождению и занятию (сал-сери, жырау) (Жуманиязова Р. Казахская традиционная музыка как искусство воинской касты// http://otuken.kz/index.php/aboutmusictalas/177-2011-03-04-12-49-05). Это утверждение следует рассматривать в контексте развернутой нами прежде концепции о тюрко-монгольских кочевниках как воинской касте традиционной цивилизации Евразии (см. например, Наурзбаева З., Асемкулов Т. Последний поход Кет-Буги: сакральная миссия кочевой цивилизации // http://otuken.kz/index.php/historytalas/43-2010-06-19-07-49-33), в сущностных моментах подтвержденной такими исследователями, как С. Кондыбай, А. Кажгалиулы, Д. Мадигожин.
Таким образом, если Казахская Орда являлась последним крупным кочевым государством  Евразии, то казахское традиционное искусство является завершением, последним взлетом в многотысячелетней истории искусства воинской касты. Искусства, синтезировавшего экзистенциальный опыт войны, элементы военной магии и хвалебной погребальной песни (подробнее см. Наурзбаева З. Культурологический комментарий к первым 300 строкам эпоса «Кобланды»// http://otuken.kz/index.php/mythzira/173—l-r-lr-r).
Евразии, то казахское традиционное искусство является завершением, последним взлетом в многотысячелетней истории искусства воинской касты. Искусства, синтезировавшего экзистенциальный опыт войны, элементы военной магии и хвалебной погребальной песни (подробнее см. Наурзбаева З. Культурологический комментарий к первым 300 строкам эпоса «Кобланды»// http://otuken.kz/index.php/mythzira/173—l-r-lr-r).
В историческом плане тезис об искусстве воинской касты вполне убедителен, однако требует философского и психологического объяснения. В дневниковых записях 1997 года Т. Асемкулов пишет об этом так: «Добро нуждается во Зле. Они вечные спутники. Добра без Опыта не бывает. Зло и есть Опыт Добра. Зло есть контекст Добра, контекст, в котором Добро обретает смысл. Зло гениально, Добро слабо, оно бесхарактерно. Художник, который сумел сублимировать свое Зло в великое произведение, – гений. Он встал выше своих страстей… У истоков казахской (тюркской) музыки стоит воинская каста. Потому что война, воинское искусство, военный опыт постоянно граничит с насилием, кровопролитием и т.д. Конечно, эту сложную сублимацию Зла в великое искусство еще надо объяснить, обосновать психологически, эстетически и т.д.»
Эта мысль, перекликающаяся с Ницшевским «По ту сторону добра и зла», идеями З. Фрейда о Сверх-Я и пр., всегда казалась мне перспективной, но трудно интерпретируемой в связи с акцентом традиционного казахского искусства на нравственность, на милосердие. «Почему казахи такой добрый народ? Добрый к детям, к страждущим. Для казахов мир создан из музыки, из кюя. Весь этот огненный мир как будто изливается из кобыза Коркута. Звучащий кюй – это только проявленная часть музыки. Весь мир – взгляд ребенка, мольба гибнущего человека, пришедшего к твоему порогу, за которым быть может гонятся враги и который быть может – последний в роду, это тоже музыка, прекрасная и печальная» (Т. Асемкулов). Этот образ напоминает мысль Ф. Ницше «…Для действительного творца этого мира мы уже – образы и художественные проекции и что в этом значении художественных произведений лежит наше высшее достоинство, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» (Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Соч. Т. 1. М., 1990. С. 75), но со свойственным для тюркской традиции акцентом на нравственность.
Идея о воинском генезисе нашей традиционной музыки подтверждается не только бесчисленными историческими фактами, но и самим содержанием музыки, не имеющей ничего общего с пресловутыми «трудовыми ритмизирующими возгласами». И вместе с тем очевидно: война – будь она даже рыцарской игрой в чистом виде – всегда предполагает насилие. Как примирить воинское происхождение искусства с его нравственным содержанием? Само слово Зло отталкивает, почти невозможно оперировать этим пугающим словом как обычной категорией. У одного из основателей этологии (науки о поведении), биолога, лауреата Нобелевской премии К. Лоренца есть исследование «Агрессия, или так называемое Зло». Рассуждать об агрессивности гораздо проще.
Агрессивность как основа социума и природа воина
В романе «Возвращение со звезд» Станислава Лемма космонавты, вернувшиеся на землю после 127 лет отсутствия, видят совершенно изменившийся мир: нет войн, насилия, преступности, но нет и дерзания, жертвенности, дружбы, даже космические полеты объявлены ненужными. Оказывается, была изобретена медицинская процедура, подавляющая агрессивные импульсы в мозге, и все люди подверглись профилактике от агрессии.
Агрессия, как давно уже доказали психологи, – это один из базовых человеческих инстинктов наряду, например, с инстинктом продолжения рода. Этот инстинкт проявляется, когда человек встречает препятствие на пути к удовлетворению каких-либо потребностей или, например, когда он испытывает разочарование, обиду, ревность, зависть и т.п. Этот инстинкт довольно часто создает проблемы в человеческом сообществе, однако без него жизнь была бы пресна. Точнее, сообщества вообще не возникло бы, не говоря уже о научно-техническом и пр. прогрессе.
Этолог К. Лоренц доказывает, что в животном мире индивидуальные отношения, в том числе любовь и дружба, возникают лишь в результате торможения агрессии, ее переориентации или ритуализации. «Торможение, запрещающее убийство или ранение сородича, должно быть наиболее сильным и надежным у тех видов, которые, во-первых, как профессиональные хищники располагают оружием, достаточным для быстрого и верного убийства крупной жертвы, а во-вторых — социально объединены… Таким образом возникает особенно трогательный парадокс: как раз наиболее кровожадные звери — прежде всего волк, которого Данте назвал «непримиримым зверем» (bestia senza pace), — обладают самыми надежными тормозами против убийства, какие только есть на Земле. Тормозящие агрессию жесты подчинения, которые развились из требовательных выразительных движений молодых животных, распространены в первую очередь у псовых» (Лоренц К. Агрессия, или так называемое зло» // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Lorenc/_Agress_Index.php).
Более того, оказывается, что существа, не имеющие агрессии, не способны и устанавливать личные отношения, даже если живут в стае или в семейной паре. Например, дикие гуси, которых К. Лоренц считает самой агрессивной птицей, в идеале моногамны в течение долгой, почти человеческой по продолжительности жизни, способны на самопожертвование ради любви, семейных уз или дружбы в полном смысле этих слов. Пара аистов, у многих народов ставшая символом семейного очага и счастья, вне гнезда просто не узнает друг друга вообще, эти птицы привязаны к гнездовью, а не друг к другу.
«Чтобы избежать недоразумений, я хочу сразу предупредить о том, что анонимное стаеобразование и личная дружба исключают друг друга, потому что последняя – как это ни странно – всегда связана с агрессивным поведением. Мы не знаем ни одного живого существа, которое способно на личную дружбу и при этом лишено агрессивности» (К Лоренц). Как тут не вспомнить казахскую пословицу «Ер шекіспей – бекіспейді» («Герои (мужи) пока не столкнутся – не сдружатся») и постоянный мотив казахского эпоса – братание и вечная дружба двух батыров после схватки.
Казахи чувство родства (а социум для казахов – это расширенная система родственных отношений) символически связывают с печенью: слово «бауыр» имеет значения «печень» и «кровный родич», выражение «бауырға басу» (букв. «прижать к печени») означает усыновление внука, сваты в знак вновь заключенного «тысячелетнего» союза разделяют ритуальное блюдо «құйрық-бауыр» (тонкие пласты вареного бараньего курдюка и печени). Между тем в китайской медицине именно печень является вместилищем гнева, т.е. энергии агрессии.
Конечно, цель эссе К. Лоренца – не столько апология агрессии, сколько предупреждение: человек, не наделенный от природы мощным оружием, хищник весьма средненький, не обладает, в отличие от волка или гуся, заложенным от природы действенным механизмом торможения внутривидовой и особенно межгрупповой агрессии, а потому научно-технический прогресс опасен. Для нас же в контексте нашего исследования интересен позитивный аспект этого инстинкта.
Надо заметить, что инстинкт этот присущ не всем. Часть людей при возникновении препятствия на пути к цели склонна не к агрессивной реакции, а к депрессии и унынию. Психология делит в этом плане людей на две части: одна часть (сангвиники и холерики), сталкиваясь с препятствиями, проявляют себя активно и агрессивно, другая часть (меланхолики и флегматики) – спокойно, меланхолично или даже пугливо. Личности первого вида целеустремленны, занимают активную жизненную позицию, стремятся к лидерству, добиваются успехов в армии, спорте, бизнесе, политике. Второго – в науке, искусстве и религии (хотя для успеха в этих сферах также необходима известная доля активности). Интуитивно эту истину знал Александр Македонский, по легенде отдававший предпочтение тем воинам, которые в момент опасности краснели (т.е. реагировали на опасность выбросом адреналина), а не бледнели.
Интерпретируя зло не как моральную ущербность, несправедливость, а как агрессию, активность, нам легче понять талмудическое толкование вопроса добра и зла в Библии: «При творении человека два влечения противопоставлены друг другу. Творец дал их человеку как двух его слуг, которые однако могут выполнять свою службу лишь в подлинном взаимодействии. «Злое влечение» не менее необходимо, чем его напарник, даже еще более необходимо, чем то, ибо без него человек не мог бы иметь жену и детей, построить дом…: ведь «всякий труд и всякий успех ведут к соперничеству между человеком и его товарищами» (Еккл 4:4). Поэтому такое влечение называют «дрожжами в тесте», бродильным материалом, заложенным в душу Богом, закваской, без которой человеческое тесто не поднимется. Ранг человека с необходимостью зависит от количества в нем «дрожжей»: «В том, кто выше другого, влечения больше»… (Бубер М. Два образа веры. Москва. АСТ. 1999. С. 178). Сам Мартин Бубер поясняет, что речь здесь идет не о зле как таковом, а о страсти и силе, присущих человеку.
Агрессия, или иначе активность, целеустремленность, страсть и сила – это характеристики именно воинской касты, воинского сословия. В индуизме выделяют три гуны (качества, элемента): саттва (покой, ясность), раджас (страсть) и тамас (тьма). Истинные воины (кшатрии) относятся к гуне раджас с элементом саттвы.
В традиционализме тип брахмана (жреца) определяется как «чисто интеллектуальный, созерцательный, отчужденный от реальности». Тип вайшьи (купца, материального производителя, ремесленника) – как связанный с материальными ценностями не только по факту и неким случайным образом, но созвучно его внутренней природе, для которой по-настоящему «реальными» являются лишь богатство, безопасность, собственность. Таким образом, эти два человеческих типа (которым соответствуют определенные касты, сословия традиционного общества) ориентированы на объективную реальность, будь-то мир абстрактных идей или материальных предметов. Они мирны и неподвижны по своей ментальности.
Тип кшатрия (рыцаря, воина) по преимуществу активный и субъектноориентированный, личность и личные взаимоотношения для него значат почти все. Он «обладает острым интеллектом, однако обращен больше к действию и анализу, чем к созерцанию и синтезу, ибо сила его, главным образом, состоит в его характере; агрессивность своей энергии он возмещает щедростью, а страстность натуры – благородством, самообладанием и великодушием. Для этого типа людей «реальным» кажется действие… Для кшатрия все является сомнительным и второстепенным, за исключением того, что соответствует его дхарме – действия, чести, добродетели, славы, благородства…» (Шюон Ф. Очевидность и тайна. М.: Номос. 2007. С. 124).
В современном мире, где специализация человека часто входит в противоречие с его типом (внутренне присущей кастой), эта рыцарская перспектива может воплотиться в сфере религии или бизнеса без существенной перемены психологического качества.
Кстати, Ф. Шюон отмечает: «Налицо неоспоримый факт, что представители низких каст реже встречаются среди воинственных кочевников, чем среди оседлых народов; безрассудно-смелый и героический кочевой образ жизни создает различия качественного порядка, окрашенные общим благородством; люди материалистического или рабского склада находятся в подчинении, а люди жреческого типа мало отличаются от представителей рыцарства» (Шюон Ф. Очевидность и тайна. С. 125-126).
Итак, агрессия или активность, сила и страсть – это качества прежде всего воинского типа людей (кшатрийской касты). Однако раджас (страсть) воина требует направленности, чтобы не погрузиться во тьму (тамас). Считается, что круговое движение, о символизме которого у кочевников много написано (см. прежде всего статью С. Кондыбая «Закон чести» на сайте http://otuken.kz/index.php/diffarticlesserikbol/26-2010-06-15-07-37-28), является результатом характерных для кшатрия центростремительного и центробежного векторов движения. Центростремительное движение – это направленность к центру или оси мира, к его создателю (Принципу), олицетворяемому для воина принципами чести, верности и славы. Центробежное движение – это склонность беспокойного темперамента воина уклоняться от центрального принципа, что может вести к погружению во тьму.
Талмудическое учение о добре и зле «не может быть понято, если трактовать, как это принято, добро и зло как две полярно противоположные друг другу силы или направленности. Их смысл становится нам понятным только в том случае, если мы познаем их как неодинаковые по своей сущности: «злое влечение» как страсть, следовательно, как присущую человеку силу, без которой он не может ни порождать, ни создавать, но которая, предоставленная самой себе, теряет свою направленность и ведет к заблуждению, а «доброе влечение» — как чистую, т.е. безусловную направленность к Богу. Соединить оба влечения – значит придать потенции страсти, лишенной направленности, такую направленность, которая дает ей способность великой любви и великого служения. Только так, а не иным образом человек может стать цельным» (Бубер М. Два образа веры. С. 179).
Такова позиция семитских кочевников, обративших свой воинственный пыл в религиозную сферу («чистых» жрецов – индуистских брахманов – вопросы добра и зла мало интересуют вообще). Но понимание того, что есть добро, зависит от конкретной религии.
Религии гнева или берсеркерство
Классифицируя виды агрессии (насилия), даже такой гуманист, как Э. Фромм «разрешает», оправдывает некоторые виды насилия, как стоящие на службе жизни, а не смерти.
Речь идет об игровом насилии, «где оно используется в целях демонстрации своей ловкости, а не в целях разрушения… Конечно, когда мы утверждаем, что при игровом насилии не может иметь места воля к разрушению, то имеем в виду только идеальный тип подобных игрищ… Гораздо большее практическое значение имеет реактивное насилие. Под ним я понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в страхе…» (Фромм Э. Душа человека. М. 1998. АСТ. С. 34). Часто ощущение опасности и ответное реактивное насилие исходят не из реальной данности, а являются результатом манипулирования, но это уже совсем другая тема. Затем Э. Фромм разбирает различные патологические виды насилия, ведущие к садизму. Отметим, что казахская традиция четко различала насилие на службе жизни и патологию. Например, в ритуале воинской инициации «Жылан кайыс» царь змей Бапы-хан, благословляя мальчика на Путь воина и вручая ему железные доспехи и оружие, говорит: «Ты получил железное оружие, но тело и душа твои пусть останутся человеческими. Будь воином, но не палачом!» (Асемкулов Т. Обряд «жылан қайыс» и его мифологическое обоснование// http://otuken.kz/index.php/mythtalasbek/213—q—q-q-q—).
Мы остановимся на еще одном выделяемом Э. Фроммом виде насилия, т.к. он, не имея прямого отношения к тюркской культуре, поможет нам лучше понять психологию неистового берсеркерства, воспеваемого европейскими неоязычниками как кульминация воинского Пути. Это архаическая жажда крови, которая по мнению Э. Фромма, была присуща древним центральноамериканским цивилизациям и традиционным культурам некоторых балканских народов, для которых убийство – это самое яркое переживание в жизни мужчины. Эту же жажду крови как эссенции жизни Э. Фромм обнаруживает в жизнеописании Г. Флобером одного будущего христианского святого.
«Речь идет не о насилии психопата, а о жажде крови человека, который полностью находится во власти своей связи с природой… Для человека, пытающегося найти ответ на жизнь посредством деградации к до-индивидуальному состоянию своего существования, в котором он становится животным и, таким образом, освобождает себя от бремени разума, кровь становится эссенцией жизни. Пролитие крови означает ощущение себя живым, сильным, неповторимым, превосходящим всех остальных. Убийство превращается в великое упоение, великое самоутверждение на крайне архаической почве… В архаическом смысле равновесие жизни достигается тем, что человек убивает как можно больше и сам готов быть убитым… Убийство в этом смысле по своей сути является чем-то иным, нежели любовь к мертвому. Это – утверждение и трансцендирование жизни на почве глубочайшей регрессии…» (Фромм Э. Душа человека. С.43-44).
Тонкая грань между патологической и архаической жаждой крови, которую обнаруживает Э.Фромм, нам не совсем ясна. У тюрков и монгол существуют многочисленные легенды о наказании свыше искусного охотника, убивающего зверей без меры, не ради удовлетворения насущной потребности, а из наслаждения своей ловкостью, перерастающей в жажду крови. По всей видимости, тюркская культура гораздо строже подходит к этому вопросу, нежели гуманист Э. Фромм.
Берсеркерство – это оборотничество, отождествление воина с медведем или волком. В древних христианских хрониках это явление описывается так: «Ужасные языческие кочевники норманны выбирают детей из каждой деревни и заключают их в ямы, оставляя их одних перед яростью стихий, и кормят их кровью и падалью. Исхудавших и голодных несчастных заставляют драться с бешеными псами, чтобы ужасное безумие передалось и им. Немногие выжившие выходят из этих ям скорее животными, чем людьми, в бою из их рта капает пена, они жаждут крови и смерти».
Возможно, это описание пристрастно, однако некоторые современные «арийцы» лишь вдохновляются подобными пассажами и пытаются придать берсеркерству метафизическое измерение: «Сущность «берсеркерства» заключается в максимальном высвобождении внутри своего существа абсолютной ненависти к пределу, к границе, к конечности. Берсеркер в экстатическом ритуале вызывает из глубин своего духа «любовь к вечности», печать личного божественного происхождения. И эти жажда уничтожения предела размывает внутренние границы его земной индивидуальности, разрушает фиксированные связи и онтологические зависимости, всякое видовое самоопределение. Нарушение личных пределов создает вокруг берсеркера разряженное бытийное пространство, в котором также нарушаются бытийные связи. Обычно эта эвокация сопровождается физическим уничтожением врагов, причем самым жесточайшим и безжалостным образом. Подчас берсеркер теряет возможность управлять священным гневом, и тогда его безграничное буйство может перейти и на другие существа (нейтральные или дружественные) или на предметы» (Басов Н. Воины Одина — феномен Берсеркера! //http://zoidze.clan.su/publ/voiny_odina_fenomen_berserkera/1-1-0-273. Этот неоднозначный, но интересный текст чаще всего приводится в интернете без указания авторства).
Оборотничество, стремление отождествиться с животным (в том числе и хищным – волком, леопардом или медведем) есть и в тюркской культуре, но здесь речь идет не о регрессии человека до животного, буйном неистовстве, а об обретении высших, сверхчеловеческих качеств. Тот же шаман обретает способность общаться с животными еще на доэкстатической фазе ритуала, эта способность служит доказательством его выхода за ограниченность рамок человеческого существования. Она ближе к способности Соломона понимать язык зверей и птиц, чем к буйству берсерка (подробнее об этом см. Наурзбаева З. Природа в тюркской кочевой традиции// http://otuken.kz/index.php/component/content/226?task=view).
В другой части континента воинская каста средневековой Индии – раджпуты, далекие потомки саков и гуннов – вынуждена была предпринимать специальные усилия, чтобы в индуистской атмосфере проповеди непротивления злу сформировать необходимый для воина уровень агрессивности, привычку к виду крови у мальчиков-раджпутов. Раджпутов с детства обучают владеть оружием и, что не менее важно, приучают к виду крови, поручая мальчикам детскими мечами отрубать головы петухам, козлятам и др. жертвенной живности (Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб.: Евразия, 2000. С.121, 216). А ведь в кастовой системе раджпуты наряду с брахманами принадлежат к двум высшим кастам, а мясники, например, – к одной из самых низших, оскверненных контактом с кровью и трупами. В тоже время, стремясь сохранить кастовую чистоту, даже ставшие земледельцами обедневшие раджпуты сами не пашут землю, а нанимают для этой процедуры пахарей, т.к. раджпуту негоже ранить грудь матери-земли плугом.
Для тюркской воинской культуры необузданность, как и опьянение кровью, не являются идеалом. Дело не только в важной для тюрков границе между воином и палачом, но и в полной осознанности, ответственности, сохраняемой во время сражения, охоты или даже убоя скота. Воин должен сражаться, но если его недостаточное искусство или плохо подготовленное оружие причиняют лишнюю боль врагу (или убиваемому животному) – это полностью ответственность воина.
Профессиональный воин-кочевник умеет отступать, имитируя бегство, и возвращаться в бой в соответствии с общим планом сражения или приказом начальника, что так не похоже на неуправляемое буйство берсерка. В романе Р. Джованьоли фракиец (тракиец) из кочевого племени Спартак на арене цирка остался один против пяти враждебных гладиаторов. Выстоять в реальной (а не киношной) схватке с пятью подготовленными и прекрасно вооруженными противниками невозможно, поэтому Спартак прибег к традиционной для его народа хитрости: он бросился убегать, соответственно противники были вынуждены его догонять, растянувшись цепочкой. Время от времени Спартак останавливался и поражал догнавшего его гладиатора. Так он одержал победу.
Этот эпизод не придуман итальянским писателем, а взят им из исторических трудов. Многие полководцы пытались применить этот прием, перенеся его с тактического уровня на стратегический, но безуспешно. Дело в психологии. Воинское соединение, начав убегать по приказу с целью обмана противника, в конце концов оказывается охваченным паникой. Сначала отдельные солдаты, ощущая за спиной дыхание догоняющего врага, поддаются страху, потом это чувство как эпидемия распространяется на других. Отступающее по команде войско превращается в бегущую в панике неуправляемую толпу. Оно не может больше по приказу командира остановиться, повернуться лицом к преследующим врагам и вступить в бой. Планомерное отступление превращается в паническое бегство. Это правило, но в нем есть одно исключение.
Тактический прием, примененный Спартаком на арене древнеримского цирка, кочевники-степняки с успехом применяли постоянно и в разных масштабах. Убегать от противника, чтобы он растянулся в погоне, а затем неожиданно развернуться и ударить по утомленному врагу – это коронный прием степной кавалерии. Если мы обратимся, например, к русским историческим романам о татаро-монгольском нашествии, то этот прием там постоянно описывается как проявление вероломства и хитрости кочевников. Но речь должна идти о необыкновенной выдержке, самообладании и хладнокровии, проявляемом не отдельным героем, а рядовой воинской частью кочевников, каждым ее воином.
Есть тенденция сравнивать экстатических тюркских дервишей, штурмовавших Константинополь в первых рядах огузов, с безумными берсерками. Трудно сказать, на какие исторические сведения опираются такие авторы, но стоит отметить, что малоазийское движение дервишей уже на ранней стадии истории находилось под сильным влиянием иранской традиции, практик ассасинов и т.п ( см. Наурзбаева З. «Древнетюркские истоки братства бекташийа и казахские сал-сери» // http://otuken.kz/index.php/component/content/234?task=view).
Автор эссе о берсеркерстве подводит метафизическую базу под буйство воинов-оборотней. По его мысли, священная ненависть и гнев, которыми исполнен воин, имеют не только психологическую, но и метафизическую основу. Расщепленность изначального единства, отделенность нашего мира, временной реальности от Высшего принципа, от Вечного начала, твари от Творца пробуждает страстное стремление кшатрия вернуться к Божественному истоку, им руководит любовь к этому истоку (центростемительная сила).
«Ненависть, гнев — это коррелят любви, это оборотная сторона любви. Если любовь (как основная кшатрийская практика) есть стремление к преодолению дуальности, порожденное притяжением Единства, то ненависть есть реакция на сам факт наличия преграды, которая стоит между двумя разделенными частями, мешая осуществлению Единства… Традиция кшатрийского гнева полно развита в нордических германо-скандинавских воинских культах… Идея священного гнева наличествует практически во всех традициях, хотя нигде она так не акцентирована, как в зороастризме и нордическом язычестве… Ужас есть естественное состояние полноценного существа кшатрийского типа, так как ужас является реакцией на ущербность мира, постоянно обнаруживающего свою ограниченную природу, свое основополагающее качество, качество предела… Для зороастрийского мифа бытие есть бытие-в-войне, так как факт двойственности, наличия в мире двух начал (Ормузда и Аримана) предполагает необходимость перманентной ненависти к врагу, к Ариману. Эта ненависть становится единственным содержанием ария» (Басов Н. Воины Одина — феномен Берсеркера!).
Снег, мощь, гнев и карма-карымта (экскурс дилетанта в этимологию)
В общем-то, значения «гнев», «ненависть», «ужас» связаны с воинской тематикой и в казахском языке. Например, слово «қаһарман» (воин) в казахском языке имеет корень «қаһар» (гнев, ярость), т.е. воин – это человек гнева, ярости. Слова эти, как считается, имеют арабскую этимологию, однако почва для их заимствования была подготовлена.
В тюркском языке есть многозначное слово «қар». Оно означает «снег», но также и «предплечье». Еще это мера длины, нижняя часть уука юрты в соответствии с антропоморфным кодом, а также слово «қар» имеет значения «вор, мошенник, шайка, свора», «беспутная женщина», к которым мы еще вернемся. «Қару» – оружие, «қарулы» – вооруженный, а также сильный, мощный.
Поскольку в казахской культуре физическая сила связывается с запястьем и предплечьем, то слово «қар» может означать и руку в целом. Значения «рука» и «войско» передаются в казахском языке словом «қол», т.е. и слово «қар» могло иметь значение «воин, войско».
Что касается значения «вор, шайка», особенно в словосочетании «ұры-қары», то стоит вспомнить, что во многих древних культурах маргинальные воинские братства воспринимались как бродячие разбойничьи шайки, терроризировавшие оседлое население (см., например исследование Р. Багдасарова «Запорожское рыцарство XV—XVII веков»). Слово «қарақшы» в казахском языке, как и в древнетюркском, имеет амбивалентный смысл: «караульный, охранник» и «грабитель». В древнетюркском языке «қарма» – это «грабеж».
Интересно, что сдерживаемый до битвы гнев батыра в казахском эпосе часто передается метафорой «с бровей его падает снег», С. Кондыбай показал мифологическую основу этой метафоры в главе «Страна за ветром и снегом» Книги 2 «Мифологии предказахов».
Уже в древнетюркском языке слово «қарсы» имеет значения «противоположность, напротив, вражда, раздор, ссора», «қарыс» – «сходиться для состязания, битвы, сражаться» (Древнетюркский словарь. Л., Наука, 1969. С. 428-429), ср. с нем. Krieg (война).
С. Кондыбай сравнивает существовавшее уже в древнетюркском языке слово «қар» с санскритским «карма», в основе которого лежит слово «карман» – «дело, действие, труд, жертвоприношение», т.к. значения «рука» и «действие» находятся в одном семантическом поле. Более того, в казахском языке слово «қарым» имеет значение «обратное, ответное действие»: «қарым-қатынас» – «взаимоотношения» (при этом слово «қатынас» – «отношение, связь, сношение» используется самостоятельно, а «қарым» только в паре; уже в древнетюркском существовал глагол «қат» – «смешивать, примешивать, присоединять» и парный корень «қат-қар-» в значении «смешиваться»), «қарымта» – компенсация, ответный набег, ответное действие на барымту. В Словаре указывается на заимствованное из санскрита слово «кармапут» – «проступок, скверное деяние» (Древнетюркский словарь». С. 289), но корень «қар» (qar) с многочисленными производными даже в этом советском академическом словаре оставлен за тюрками J.
Таким образом, тюркское «қарым» как «обратное, ответное действие» более точно отражает смысл санскритского термина «карма» (причина-следствие, воздаяние), нежели санскритское «карман». Но тюрки, не полагаясь на высшие силы, берут в свои руки осуществление вселенской причинно-следственной связи, воздаяниеJ .
Кочевники осознавали себя оружием Божьим, да и эпитет «Бич Божий», данный Аттиле европейцами, по сути позитивен. Приняв ислам, тюрки считали себя войском Аллаха. Уже в ХI веке М. Кашгари в своем знаменитом Словаре приводит хадис, согласно которому Аллах говорит: «На востоке у меня есть войска, называемые тюрками. На кого я разгневаюсь, на того отправляю тюрков» (См.: М. Булутай. Ата-баба дiнi. Туркiлер неге мусылман болды? Алматы. С. 261). Итак. тема Гнева Божьего присутствует в тюркской культуре, но этот гнев является не тотальным, а избирательным.
Казахское слово «қарғыс» в древнетюркском языке имело форму «қарғағ», при этом словосочетание «қарғыс ату» (быть проклятым, букв. «быть застреленным проклятьем») говорит о том, что проклятие персонифицировалось, представлялось некоей самостоятельной сверхъестественной сущностью (ср. «Тәңір атқан», «Құдай атқан», «Аруақ атқан» – «наказанный (застреленный) Тенгри, богом, аруахом»).
В некоторых тюркских языках гласные в корне слова удваиваются (например, якутское «абаасы»), при переходе такого слова в другие тюркские языки двойная гласная может быть разделена придыханием һ: древнетюркское «қар» может превратиться в «қаар», затем в «қаһар», т.е. в принципе слово могло возникнуть в рамках тюркских языков.
Казахский фразеологизм «қаһарына міну» отражает понимание гнева как верхового животного, на котором восседает разгневававшийся человек. Как тут не вспомнить одно из имен Одина / Вотана – Игг (гневный, ужасный) и название Мирового дерева германо-скандинавов Иггдрасиль – «конь Игга».
Еще один фразеологизм – «қаһарын төгү», т.е. гнев предстает некоей жидкой субстанцией, которую гневающийся проливает (аруах вошедшего в возбужденное состояние воина также «тасады» – вскипает, переливаясь через край сосуда). Кстати, еще одно значение лексемы «қар» в древнетюркском языке – «переливаться через край» (Древнетюркский словарь. С. 422).
С. Кондыбай объясняет слово «үрей», в современном казахском языке имеющее значение «панический ужас», как вариант слова «ұран» (совр. значение «боевой клич, воззвание, девиз»), в традиции означающего «дух предка, дух-покровитель в облике змея, дракона». В эпосах цикла «Сорок крымских батыров» главный герой призывает уран, тот появляется в облике дракона (грозовой или пыльной тучи) и опоясывает батыра, аруах батыра вскипает и переливается через край, а души врагов улетают от страха (Кондыбай С. Мифология предказахов. Книга третья. Алматы: СаГа. 2008. С. 323-327). Батыр в одиночку побеждает вражье войско, громит ставку враждебного хана, иногда казнит врага, а затем назначает нового хана из этого же народа и, установив порядок, возвращается на родину. В отличие от берсерка, он не «теряет управление своим священным гневом», не наносит увечья себе и не громит в порыве буйства все подряд. Наверное, сожалеть о такой «неполноте» гнева батыра не стоит J.
Кстати, ужас – это не только естественная реакция на якобы ущербность мира. Видение священного, божественного уже само по себе вызывает ужас, священный трепет. Нумино́зность (лат. numen — божество, воля богов) — понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия.
С. Кондыбай в книге «Казахская степь и германские боги» доказал происхождение германо-скандинавской мифологии от тюркской, а Д. Мадигожин в эссе «Мировой Алтай: имя и дух евразийской идеи» (http://dalaruh.kz/articles/view/86) прекрасно объяснил, каким образом скандинавский ландшафт с многочисленными укромными фьордами определил трансформацию открытой миру воинской традиции в человеконенавистнический этос варягов и пиратов. Если обратиться к классификации Э. Фромма, то в берсеркерстве насилие является архаической жаждой крови, приобретающей все более патологический характер.
Тенгрианство – Изначальная Традиция – проникнуто ощущением благости и совершенства, красоты мира (Тенгри стал миром!), в котором противоположности находятся в диалектическом равновесии. Зороастризм же, отпочковавшийся от Мирового древа степной традиции, характеризуется крайним дуализмом, болезненным ощущением скверны земного мира.
Трудно сказать, что стало главной причиной такой трансформации мировосприятия в зороастризме: временной фактор (по индуизму, это начало Кали-Юги, темного века), склонный к дуализму психоментальный склад иранцев, жаркий климат (способствующий распространению инфекций и требующий строгого соблюдения правил гигиены, принявших форму ритуального очищения), личность Заратустры или направленность зороастрийской религиозной реформы против военной аристократии (Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. СПб.: Университетская книга. 1997. С. 139. Кстати, именно Заратустра выступал против свирепых воинских обрядов, кульминацией которых было состояние «ярости», «бешенства»).
В соответствии с диалектическим характером тенгрианства, человек получает от Змея оружие, чтобы защитить птенцов Самрук от Змея же, т.к. Птица и Змея – это лишь две ипостаси Единого!
В «Жылан кайыс» Бапы-хан, одаряя человека душой и телом (оружием и доспехами), необходимыми для жизни в материальном мире, в то же время напоминает ему о его высокой человеческой сути, о его призвании. В мире форм, в мире, подверженном власти времени, человек обречен на частичность (неполноту) знания, на болезни и страдания, на смерть, на отчужденность от своей небесной родины. Но лишь оказавшись в мире форм, в мире времени, обретя тело=оружие, человек получает возможность действовать. Тело – это оружие. Оружие – атрибут воина, делателя, символ его миссии. В небесном мире вечных архетипов, где нет времени, все существует одновременно, в вечном настоящем, действие и изменения невозможны. Могущественная Самрук знает, что ее птенцы погибнут в пасти змея, но она не может изменить предначертанное. Спасти их должен человек, существо временное. В этом его миссия, в этом смысл его существования, его Пути в мире форм. Змей наделил его телом-оружием, чтобы он убил Змея и спас птенцов.
В завершение своего пути человек возвращается в гнездо Самрук. Туда, где она пестовала его бессмертный дух в облике птенца до того, как он спустился в мир форм, облекся в «кольчугу элементов». Поднимаясь к Самрук, человек возвращается к самому себе, он встречает самого себя, осознает свою тождественность с Самрук. Одновременно человек познает и истинную природу Змея, Бапы-хана, то, что Самрук и Бапы-хан есть лишь разные ипостаси Единого, того, кого индейцы называли Кецалкоатль – Пернатый Змей.
Человек – этот проецированный в материальный мир дух, он облачен в смертное тело и проходит свой страшный Путь для того, чтобы спасти ангелов. Позволяющая совершить эту миссию «змеиная кожа» рассматривается как дар, а сама миссия как реализация благословения Бапы-хана остаться «существом человеческой природы», помнить о своей природе и отзываться на просьбу о помощи «Адамзат, көмектес маған!» (Наурзбаева З. Спасение птенцов Самрук и утраченный инициационный ритуал кочевников// http://otuken.kz/index.php/mythzira/40—v-).
Мир не перестает быть прекрасным из-за того, что он существует во времени, изменчив и хрупок, а населяющие его существа смертны. Смерть – это также дар, дар Коркута людям, шанс расти и изменяться. Нет жизни в том, что не умирает. Быстротечность жизни – это повод ценить каждое ее мгновение.
Тюркские воины не только стремились найти стоящего врага и не только мечтали умереть на поле боя от точного удара в сердце, они руководствовались принципом: «Вырасти себе достойного врага, который убьет тебя на взлете!» Именно этот принцип объясняет внутреннюю суть взаимоотношений двух побратимов-врагов – Джамухи и Темуджина. Джамуха много раз имел возможность пресечь военно-политическую карьеру Темуджина. Но он не сделал этого, потому что умерев от руки достойного врага – Чингис-хана, он обрел огромный потенциал роста в следующем существовании.
Объясняя миф о жертвоприношении божественного существа, из смерти которого возникает космос или нечто полезное для человечества, М. Элиаде пишет: «Жизнь может произойти только от другой жизни, которая приносится в жертву. Насильственная смерть созидательна в том смысле, что приносимая в жертву жизнь проявляется в более выдающейся форме и на другом уровне существования» (Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996. С. 214). Вероятно, эта интерпретация мифолога более точна, чем попытка психолога увидеть любовь к жизни в архаической жажде крови (распятие Христа – из этой категории жертвоприношений, а христианское причащение кровью-вином – близко «жажде крови», поэтому не случайно Э. Фромм иллюстрирует этот тип насилия историей христианского святого).
Убивая и умирая, в смене поколений, готовых к самопожертвованию, существовало «вечное войско Тенгри» – «Мәңгі кол» (выражение, встречающее уже в текстах древнетюркских памятников, от него образовался этноним «монгол»).
Уважать врага, или Великий джихад
Истинно воинское происхождение казахского этоса проявляется в уважительном отношении к врагу. Многие прекрасные строки казахского эпоса посвящены восхищению мужеством, силой и искусством противника. В «Кобланды», например, главный герой не может сдержать натиск юного «калмыка» Биршимбая, и лишь предательство Карлыги спасает его от окончательного поражения. Такие примеры можно множить.
Деление на «свои-чужие» характерно для человеческого общества с самого начала. Ограничение желаний, вызывающее агрессию, – это необходимое условие сосуществования в социуме. В тоже время подавление агрессии, несущей с собой огромный энергетический заряд, всегда опасно, т.к. лишает человека и социум одного из мощных источников энергии, а с другой стороны формирует повышенную тревожность, склонность проецировать негатив на окружение.
Возможны два пути работы с агрессивностью. Первый вариант – это признание агрессии, выведение ее из тени, восприятие ее как энергетического качества человека. Как говорится, принятие своего права быть агрессивным делает жизнь просторней. Однако принятие этого права должно сопровождаться ответственностью за последствия такого рода поведения. Казахская традиционная культура шла большей частью по этому пути. В эпосе главный герой в детстве не умеет управлять своей энергией и агрессией, он бьет ровесников, рвет (нечаянно) пряжу у соседских старух, и вообще «камни горят, горы обожжены» («Кобланды-батыр») неуемной энергией будущего батыра. Все это продолжается до тех пор, пока он не получает весть о своем призвании, своей истинной цели, и не отправляется в странствие за ней. Народ мудро смиряется с временными неудобствами, т.к. понимает: из сорванца, озорника вырастет батыр – опора народа («Шықса, тентектен шығады»).
Вся тюркская воинская культура, все наше традиционное искусство является, по существу, способом переориентировать и ритуализировать природную агрессию.
Второй вариант – выведение, перенос внутригрупповой агрессии вовне, превращение ее в межгрупповую обосновывается приписыванием всех хороших качеств «своим», и всего плохого – «чужим» – варварам, неверным, язычникам. В зороастризме Туран, кочевники олицетворяют Зло как таковое, Аримана. Святой Августин объявил священную войну Civitas Dei против Civitas Diaboli, забыв призыв Христа «возлюбить врага».
Психоанализ объясняет это так. «Как первый незваный гость, врывающийся в рай младенца в объятиях матери, отец является архетипическим врагом; по этой причине в течение жизни все враги являются (для подсознательного) символическим олицетворением отца… «Все убитое становится отцом»… Порыв к уничтожению отца постепенно превращается во внешнюю жестокость. Страейшины примитивных сообществ или народов защищают себя от своих подрастающих сыновей психологической магией тотемных церемоний… Тотемные, племенные, расовые и агрессивно-миссионерские культы представляют собой лишь частичное разрешение психологической проблемы смягчения ненависти любовью… В них эго не уничтожается, но скорее разрастается: вместо того, чтобы думать только о себе, личность становится преданной всему своему обществу. Остальной мир… тем временем остается вне сферы его сочувствия и защиты, поскольку пребывает вне области покровительства его бога. За этим следует то драматическое разделение двух принципов любви и ненависти… Вместо того, чтобы очистить свое собственное сердце, фанатик пытается очистить весь мир. Законы Града Божьего применяются только внутри его группы (племени, церкви, нации, класса и всего прочего), а против всех необрезанных, варварских, языческих, «коренных» народов и инородцев, которым случилось занимать положение соседей, разжигается пламя беспрестанной святой войны…» (Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. Киев, 1997. С. 117).
Тюрки-кочевники не прибегали к очернению врага для самооправдания по ряду причин. Во-первых, эпос предназначался для духов умерших героев, которые, как считалось, требовали соблюдения истины, не нуждались в ложной славе. Поэтому эпос не только воспевает мужество врага, но и отмечает слабости и ошибки главного героя. К тому же лишь победа над сильным врагом украшает героя. Во-вторых, тенгрианство изначально было монотеистичным, Тенгри рассматривался как Единый, все народы были созданы Тенгри для определенной цели, а потому тюрки не пытались оправдать свою агрессию, объявляя тот или иной народ неполноценным, дъявольским и пр.
Кроме того, казахи понимали, что земля, например, не является чьей-либо изначально, «от Бога», это знание выражено в поговорке «жеті жұрт келіп-кеткен жер» – «земля, на которую пришли и с которой ушли семь народов» (см. Наурзбаева З. «Казахи – гости на родной земле // http://otuken.kz/index.php/publzira/138-2010-09-07-05-35-51). Поэтому в борьбе за жизненные блага у наших предков не было искушения очернять врага или объявлять свою войну священной. Было четкое понимание, что «Бог ни за кого» и подобные войны ведутся за выживание нации, так сказать «сары бала, қара қазан қамы» (букв. «ради светлых детей и ради закопченного котла», что конечно не исключает символического толкования понятий).
Самое главное, наша традиционная культура гораздо древнее, чем принято считать, и она включала нечто вроде психоанализа в мифологической форме. Многие сложные темы, такие например как объективации зла, возникновения дуализма, психологический инцест, нашли отражение в казахским фольклоре (см. статью Т. Асемкулова «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначального смысла» на сайте http://otuken.kz/index.php/mythtalasbek/28-2010-06-15-08-24-08).
По всей видимости, тюркская эзотерическая традиция понимала, что первым бессознательным объектом агрессии является отец, и что уже позже эта агрессия переносится на внешнего врага, поэтому образ отца не всегда предстает благостным. Отец Алпамыса отправляет только что вернувшегося из похода единственного сына вернуть угнанный скот c упреком: «Зачем мне сын, который не может защитить мое имущество?» В сказке «Ер-Тостик» ради спасения своей жизни отец предает сыновей и невесток в руки Мыстан.
Есть поговорка «Күш атасын танымайды» – «Сила не знает своего отца». Когда-то я спросила свою аже Акибу Темиргаликызы Бекбулатову (1914-1991, ЗКО) о смысле этой поговорки, и она рассказала легенду об «ақыр заман» – «конце света». Однажды на поле боя в единоборстве схлестнулись отец и сын. Сын вырос вдали от отца, и они не знали друг друга в лицо. Лишь во время схватки, когда сын призвал аруах предков, отец узнал его. И тогда пристыженный сын бежал без оглядки, умоляя землю спрятать его от позора. Земля разверзлась, и он провалился в бездну. Легенда эта использована в «Шахнаме» Фирдоуси. К сожалению, нам не дано узнать эзотерическое толкование этой поговорки и легенды, подобное тому, что дано трем классическим эпосам в исследовании Т. Асемкулова, однако очевидно, что речь идет о той самой проблеме, что поднимает (вслед Э. Фромму) Дж. Кэмпбелл.
Экзотерическая религия вообще склонна объективировать зло, проецировать его вовне. Это особенно характерно для зороастризма и схожих традиций. Ислам более диалектичен, в нем есть представление о борьбе с внешним врагом как малом джихаде и борьбе со злом внутри себя как великом джихаде. Суфизм делает акцент на познании внутреннего зла, продолжая внутреннее знание тюркской традиции. Он не разделяет зло и добро, а видит их неразрывную связь и обусловленность в одной душе. Невинность как незнание собственного зла, как неопытность мало ценится в суфизме. У казахов есть пословица «Өнерді үйрен, үйрен де жирен», т.е. «Научись искусству, овладей умением, а затем откажись от него». Таласбек Асемкулов приводит следующую легенду, объясняющую смысл этой пословицы.
Однажды к суфию пришел молодой человек, чтобы стать учеником. Наставник спросил у него:
– Умеешь ли ты лгать?
– Нет, – удивился ученик.
– Умеешь ли ты воровать?
– Нет, – вспыхнул ученик.
– Умеешь ли ты убивать?
– Простите, наверное, я пришел не туда, – возмутился ученик.
– Научись делать все это, а потом уже возвращайся, – сказал в спину ему учитель.
В легенде учитель не подталкивает ученика к преступлениям и лжи, не учит этому «искусству» (хотя маргинальные группы – носители некогда общего для Евразии воинского знания, такие как ассасины или ниндзя, – превратили убийство исподтишка в свой Путь). Он лишь хочет, чтобы юноша осознал: в душе у него, как и у всякого другого человека, есть зло. Лишь после этого человек может начать свой духовный путь, свой великий джихад.
«Зло, вина, глубинный страх совести и жуткие предчувствия откроются взору тех, кто захочет их увидеть. Все это совершили люди: «Я – человек, и человеческая природа так же свойственна мне, как и другим, и поэтому я виновен вместе со всеми и по своей сути обладаю… способностью и склонностью в любое время поступать точно так же»… В силу нашей принадлежности к роду человеческому, мы являемся потенциальными преступниками. На самом же деле нам просто не выпало подходящего случая включиться в этот дьявольский круговорот. Никто не находится вне черной коллективной тени человечества… Только глупец может долго не обращать внимания на предпосылки своей собственной натуры. Такая беспечность является самым лучшим средством постепенного самопревращения в инструмент зла… нас не спасут безобидность и наивность. Напротив, они соблазняют нас переносить «на других» не признаваемые за собой злые качества» (Юнг К. Божественный ребенок. М., 1997. С. 237).
Традиции, постулирующие существование «метафизического зла», позволяют своим представителям локализовать зло в отдельных группах людей, в соседних этносах и традициях, сохраняя ощущение своей правоты и полной невинности. Эта позиция облегчает совесть, но повышает фоновую тревожность, усиливает страх перед скрываемым внутренним злом и теми, кто был выбран олицетворять зло. Например, для зороастризма таким олицетворением Аримана были кочевники, Туран, и позднее в исламскую эпоху это отношение к тюркам сохранилось, чему свидетельством «Шахнаме» Фирдоуси.
Более мудрая позиция была выбрана теми, кто, видя единый источник добра и зла, утверждал «Өнерді үйрен, үйрен де жирен». Это позволяет осознать свою тень и двигаться далее, к состоянию новой целостности и совершенства. Интересно, что в алхимии эта целостность, преодоление противоположностей символизируется Философским Камнем. «Философы говорят, что Камень приносят нам рыбы и птицы, им обладает каждый человек, он находится всюду… Камень известен всем людям, молодым и старым, он находится… во всех вещах, созданных Богом; и при этом он презирается всеми…Благодаря Камню «Зло должно стать тем же, что и Добро». Камень – это «примирение противоположностей, дружба врагов»… Парадоксальность вездесущего и недоступного Философского Камня в каком-то отношении указывает на диалектику сакрального вообще…» (Элиаде М. Азиатская алхимия. С. 239-240).
В тюркской традиции Философскому Камню соответствует Шамшырак, связь Философского Камня с водой вечной жизни напоминает о магическом камне «жады-тас» (Тюркский миф о камне подробно анализирован С. Кондыбаем в Третьем разделе Книги третьей «Мифологии предказахов» // http://otuken.kz/index.php/serikbollistofcat/39-2011-04-08-12-45-03/183-2011-04-11-06-14-33). В более широком контексте, Камень – первая ипостась Коркута, созданная сразу после него. Камень, скала символизирует вечность, нерушимость, честь … Коркут-камень служит гарантом исполнения договора или клятвы (Т.Асемкулов). Можно провести параллель между первой ипостасью Коркута и Митрой – авестийским богом Договора и Солнца… Договора между родами и племенами высекались на камне, возле больших камней или скал приносились клятвы, казахские бии во время выступления на суде держали в руках камень. И во всех этих случаях сам Коркут становился свидетелем и гарантом честности. Поклонение казахских сал-сери Бектасу-ата символизировало их верность данному слову, преданность идеалу воинской чести, ведь и митраизм в Римской империи был воспринят прежде всего легионерами, воинским сословием.
Не претендуя на решение вечной загадки Философского Камня алхимиков, можно предположить, что Камень символизирует направленность к центру, центростремительную силу, воздействующую на «зло», т.е. на агрессивную силу, страстность-раджас кшатрия. Эта центростремительная сила может пониматься как Любовь – любовь и верность к Творцу, а на более сниженном уровне – любовь к славе и доблести, любовь к женщине, верность и доверие, без которых невозможно сосуществование, и т.д. Тем более, что К. Лоренц доказывает: к индивидуальным взаимоотношениям, к любви, жертвенности и истинной социальности способны лишь агрессивные по своей природе виды. Заложенное в душе каждого из нас влечение к Центру «примиряет противоположности» – силу-страсть, обретшую истинное предназначение, и добро, познавшее зло в себе.
Последним испытанием будущего Будды, кшатрия по происхождению, было появление перед ним бога Кама-Мара, имя которого буквально означает «Желание-Враждебность», «Любовь и Смерть». Он персонифицирует те силы, которые создают и удерживают Иллюзию этого мира. Будда сумел погасить в себе последние угли Огня, который является движущей силой вселенной.
Кульминация жизни
В казахском фольклоре наш мир постоянно называется «Жалған» – Обманчивый, Иллюзорный, но сал-сери выбирают «путь левой руки», познавая и преодолевая Желание-Враждебность не через аскетизм, отказ, а через собственный опыт, через празднование земной жизни, через ее полное исчерпание. Иллюзорность и краткотечность – это не признак ущербности жизни, а причина радоваться ей, чувствовать красоту каждого ее изменчивого мига, уважать друг друга, потому что все мы лишь гости в этом мире и гости друг другу, приходим в него и уходим, и сам этот мир преходящ и смертен («келімді-кетімді бұл дүние, аяғы өлімді бұл дүние» поет Коркут в огузском эпосе). Таким мирощущением пронизана казахская традиция. Казахи считали могилу ипостасью эзотерического Коркута, смерть – даром Коркута человечеству, потому что «не умирает лишь то, что не является живым».
Основатель корпорации Apple Стив Джобс, активно практиковавший восточные духовные техники, в своем выступлении 2005 года перед выпускниками Стэнфордского университета, сказал: «Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Если сегодня будет последний день в моей жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня? Память о том, что я скоро умру, — великолепный инструмент, который помог мне принять все самые важные решения в жизни. Мысль о скорой смерти — лучший способ избавиться от иллюзии, что тебе есть что терять. Ты уже будто голенький, и нет причины не следовать за своим сердцем. Смерть – это лучшее изобретение жизни».
Е.Н. Успенская считает, что постоянный риск, чувство опасности, сопровождающее жизнь воинов-раджпутов, заставляет их, в отличие от других индийцев, особенно ценить красоту каждого мига жизни. В казахской традиционной поэзии есть жанр, в котором постаревший поэт описывает каждый возраст, характерное для него состояние. Но это не старческое брюзжание, а констатация: «Я был волком, и был львом, и скакуном, я познал все, но теперь я состарился, и мне пора отдыхать». Современный мистик Бхагван Раджниш Ошо, протестуя против жизнеотрицающих религий, говорит: «Тот, кто прожил, всегда готов умереть… Религия, которая отрекается от жизни, ложна: отрекаются не пожив, а потому боятся смерти. Индия – страна трусов, они не живут, но потому много думают о смерти… Религия, которая делает вас способными прздновать в полной мере – истинная религия» (Ошо. Скрытая гармония. М., 1998. С. 112).
Праздновать жизнь – это значит ощущать каждый миг своего бытия как бесценный и прекрасный дар, это значит пробудиться от сна бессознательности, в который обычно погружен человек. Война, опасность привлекательны потому, что в эти мгновения человек живет осознанно, всем своим существом. К тому же, как подчеркивает Ошо, война в прошлом была красивой, пиком существования, его тотальностью. И мир после такой войны наступал настоящий, красивый, означавший дружбу с врагом, а воины были красивыми людьми. «Нигде на свете не вырастало такого большого искусства, как в нации солдат. Нация может рождать великое искусство только на почве войны», – утверждает Джон Рескин, но потом уточняет, что речь идет не о всякой войне, а о «войне творческой, кладущей всему основу, в которой естественное бсепокойство и обуревающая человека радость борьбы дисциплинируется по всеобщему согласию в формы прекрасной, хотя, возможно, и роковой игры…» (цит. по.: Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 2004. С. 170).
Именно такова жизнь и смерть казахских сал-сери – воплощенная поэзия бытия. Сал-сери всегда верны своему внутреннему «Я», они причудливы в одежде, поведении, в любых мелочах Каждый сал придумывает для себя вычурный яркий фасон одежды из ярких шелковых тканей, с использованием даже элементов детской или женской одежды. Перья филина на шапочках казахских артистов – это приглянувшийся сал-сери типичный элемент детской и девичьей одежды, защищающий от сглаза. Биржан-сал, как свидетельствует архивное фото, носил на шее белый шарфик, а Даулеткерей разъезжал по степи верхом с солнцезащитным зонтиком в руках. Сал мог, например, бросить в огонь один за другим сорок дорогих шелковых платков, мог ехать, распустив за собой шелковый белый пояс длиной в 20-40 метров, и никто не смел наступить или переступить через него. Там. где он падал вблизи аула на землю, над ним устанавливали юрту.
В своих карнавальных одеждах, не прикрыв их доспехами, сал-сери выезжали на битвы в самом авангарде войска, потому что битву они превращали в свидание с Прекрасной Дамой – Смертью. Они были верны своему «Я» и в малых причудах, и в самом главном, это их «Я» было тождественно трансцедентному Ар (честь).
Сери – избранники, празднующие жизнь, иногда вопреки социальным нормам. Но они не сибариты, наслаждающиеся рафинированной роскошью и плотскими утехами. Их жизнь – это единство, гармония противоположностей, предполагающая нежность в мирной жизни и мужественность на поле битвы. За много веков до Эдит Пиаф тюркские воины декларировали «Я ни о чем не жалею». Жырау ХVI века Доспамбет, воспев радости воина, о которых просто невозможно сожалеть, – кочевье, лошадей, доспехи, объятия красавицы, пиры, – заключает «Если вонзилась вражья стрела, Если кровь как красная краска пропитала землю, Если она течет как вода, Не будет сожалеть об этом воин, Умирающий в битве в ковыльной Сары-Арке».
Эрос воина
У современных казахов «серілік» понимается очень узко и профанизированно как донжуанство, любовные похождения. Причиной такого понимания является постоянство любовной тематики в творчестве сал-сери, определенная свобода отношений салов с девушками и молодыми женщинами. В тоже время в фольклоре о салах, в творчестве которых эротическая функция выражена гораздо сильнее, нежели у сери, говорится: «Сал, ойыныңды көрсет, алдыңнан қыз таянды, артыңнан жау таянды» («Сал, покажи свое искусство (букв., игру), спереди к тебе дева приближается, сзади враг надвигается» (Турсунов Е. Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау. Астана, 1999. С. 185).
Женщина и война, желание и враждебность, Любовь и Смерть… Единство противостоящих начал осознавалось и в древних культурах, и позднее в европейском психоанализе как Эрос и Танатос. Как выразился Ошо: «Кто не умеет сильно гневаться, тот не умеет и любить». «В некотором смысле, ненависть тождественна любви, которая также есть напоминание о великой первокатастрофе и действие, направленное на ее преодоление. Этим родством объясняется также и сама практика сексуальных отношений, в которых элементы борьбы и ярости неразделимы с элементами слияния и блаженства» (Басов Н.). Эта диалектика выражена в игре «қыз қуу» (погоня за девушкой), настолько архетипической, что у североамериканских индейцев, ушедших из Евразии более десяти тысяч лет назад, эта игра возрождается в деталях, как только бледнолицые привозят на континент лошадей (описание этой игры у племени шауни см. в книге Сат Ок «Земля соленых скал». М. 1964).
Единство этих начал получило оформление в традиционном ритуале. «Россбах распознал в римском браке похоронную обрядность: свадьба – типичное изображение на саркофагах; брачные боги – боги смерти; похоронная процессия и свадебная процессия одинаковы; невесту приводят ночью при факелах, брачная постель уподоблена смертному ложу, и шествие вокруг алтаря аналогично погребальным обрядам. Центральный момент исчезновения-появления света-солнца борьба остается основой и в браке; производительный акт семантизируется как поединок. Вот почему греческая богиня любви делается женой бога битвы и носит эпитет «приносящей победу», а в одном из древнейших святилищ она изображена вооруженной, как, впрочем, и сам Эрот, персонифицированная любовь, имеет атрибутами лук, стрелы и факел (огонь). Не менее интересно, что у древних германцев молодая получала в день брака, среди других подарков, военное оружие; «это их брачные боги» поясняет Тацит. На почве этой семантизации впоследствии создается богатейшая военно-эротическая метафористика. Разумеется, оформления образа подвергаются со временем изменениям» (Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л.. 1936. С. 78-79).
Казахская традиционная свадьба – это также агон, поединок-состязание двух брачующихся родов в музыкальном и поэтическом искусстве, спорте, щедрости и острословии. Здесь ярко проявляется сущность традиционной воинской культуры как ритуализации и переориентации агрессии, принимающей игровую форму.
Любовь как один из архетипов воинского Пути предопределяет совершенно особый статус женщины в воинской культуре. «Любовь и семейное счастье сами по себе считаются ценностями в раджпутской семье, что отличает ее от многих основанных на традиционных взглядах индийских семей, где романтическое представление о семейной жизни нечасто разрешается даже формулировать, не то что выполнять» (Успенская Е.Н. С. 207).
Женщина в воинской культуре – это не просто объект любви, она обладает духовной силой, придающей силе воина центростремительное направление. Интересно, что в средневековой индийской воинской идеологии раджпут являет собой силу и страсть (раджас) в чистом виде (своенравность и своеволие культивируются воспитанием в раджпутском мальчике), а его жена призвана молитвами и ритуалами обеспечить должную направленность этой силы. «Служение мужу» понимается широко…, но прежде всего как религиозное служение: жена может быть предстоятельницей за мужа перед богами, может отмолить его, может защитить его своими обрядами, может способствовать его процветанию, если сама не будет нарушать нравственный закон. Как человек, который может драматическим повлиять на судьбу мужа, она старается, чтобы это влияние было только положительным, только благоприятным» (Успенская Е.Н. С. 211).
«В раджпутском воинском сообществе выработалось удивительно серьезное и уважительное отношение к предназначению женщины, основанное на представлении о мистическом характере женской природы. Раджпутские жены со всей страстью и умом сильных натур выполняли свой долг женщины и матери героя, воина, и их подвижничество признается повсеместно в Индии как эталон женского служения долгу» (Успенская Е.Н. С. 223).
В казахском эпосе главная героиня – невеста, жена батыра – являет олицетворенную мудрость, чистоту, верность. Она также часто обладает даром предвидения и магическими способностями. Более того, в традиционной культуре она символизирует Цель жизненного Пути воина (Асемкулов Т. Казахский эпос...).
Внутренняя женщина
Анализ казахского фольклора позволяет реконструировать архетип женщины как медиатора между мирами. Главная героиня казахского эпоса или генеалогической легенды обычно имеет ипостась волчицы, лебедицы, змеи и т.д., она обладает сверхъестественными способностями. Невеста или жена главного героя явилась к нему из мира иного, как посланница высшего мира к избраннику, принадлежащему к миру земному (Наурзбаева З. Архетип женщины-медиатора между мирами в казахской традиционной культуре // http://www.otuken.kz/index.php/mythzira/1-archetype-of-woman).
Этот архетип тюркской мифологии можно объяснить, обратившись к концепции индуизма о внутренней и внешней женщинах. Схематически мужчина как субъект, отражение полюса может быть представлен как «окружность, ограничивающая «конус» плотного мира бхур в одном из возможных горизонтальных планов… Женщина со своей стороны, представляет в пределах человечества отражение объектных модальностей «человеческого мира», символически соотносится с пространством и внутри окружности, и вне ее одновременно. Именно эта двойственность символизма женского начала определяет подчас противоречивое отношение к ней в традиционных обществах: то она рассматривается как существо низшее по отношению к мужчине, то, напротив, утверждается как высший принцип… Можно сказать, что внутренняя женщина отождествляется с центростремительной силой (шакти), т.е. с силой притяжения к полюсу. Внешняя женщина, напротив, соответствует центробежной силе, силе отталкивания от полюса. В данной ситуации мужчина находится между двух женских стихий, причем его духовная реализация, инициация в королевский статус… есть путь сквозь внутреннюю женщину, часто представляемый как священный брак… На чисто человеческом уровне обычная женщина несет в себе лишь архетипические начатки этих двух сил, их суммарную парадигму» (Дугин А. Абсолютная родина. М, 1999. С.118-121).
Схема может быть перенесена на разные уровни бытия, выражена в социальном и семейном плане. «В инициатическом ключе следует понимать и мистерию брака на социальном уровне. Момент брака соответствовал переходу мужчины от матери (внешней женщины) к жене (внутренней женщине). Мать символизирует то, что объемлет человеческую окружность» (Дугин А. С. 122), она – материя, мать-земля, мать-природа.
Перенос метафизики внутренней и внешней женщин на человеческий план выражен в казахской пословице «Умная жена влечет мужа с порога на тор, а дурная – с тора на порог». Положение на торе или на пороге отражает не просто диметрально противоположный социальный статус, «төр» имеет значение центра, оси-полюса (в древнетюркском языке это слово означало также Мировое древо и Млечный путь), а порог – периферии, границы миров. Таким образом, речь идет именно о центростремительной и центробежной силе, которую жена придает мужу. В эпосе «Кобланды» четко прослеживается метафора жены батыра как золотой коновязи, т.е. земной оси, которую даже во тьме находит запаленный в многодневной скачке тулпар батыра, и к которой после долгих странствий и череды ошибок возвращается сам герой. Его возвращение домой, к жене есть по сути возвращение к собственному «Я», утраченному в порывах ложной гордости и старсти к завоеваниям.
Символизм полов сохраняется на более высоких уровнях бытия. Например, выход мужчины, реализовавшегося как субъект плотного мира (т.е. прошедшего через малые мистерии), на более высокий уровень, его движение к полюсу тонкого мира является движением через «женский мир тонких вибраций – просветленных психических сил…» (Дугин А.). Этот акт символизируется священным браком с «женщиной тонкого мира», которую казахи называют «пері-қыз» – «девушка-пери», в иранской традиции это «фраварти», а в скандинавских сагах – «валькирия».
«…У каждого телеутского шамана есть небесная супруга, живущая на седьмом Небе… Он называет ее «моя дорогая супруга», а земная жена «недостойна поливать водой ее руки». Шаману помогает в работе не только его небесная супруга, но и другие женщины-духи (Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев, 1998. С. 70).
Валькирия, как и небесная супруга шамана или как девушка-пери, имеет устрашающий аспект, потому что «состоянием, или подлинной субстанцией, нормальной человеческой души является благочестие, или вера, и она содержит в себе элемент страха, так же, как и элемент любви; совершенство – это равновесие между двумя этими полюсами,… любовь к Богу, и как ее отражение – любовь к супругу или супруге, предполагает элемент благоговейного трепета или уважения» (Шюон Ф. Очевидность и тайна. С. 287-288).
Валькирия, летая над полем боя, отбирает тех, кому суждена смерть, и уносит души храбрых воинов в Вальгаллу. Для нас этот образ интересен потому, что С. Кондыбай абсолютно доказал его происхождение от тюркского образа девушки-пери. Описание валькирии в деталях совпадает с образом девушки-пери, при этом образ пери со множеством деталей многократно воспроизводится, дублируется в казахском фольклоре, сохранявшемся изустно вплоть до середины ХХ века. Этот образ подробно анализировался С. Кондыбаем в книге «Казахстая степь и германские боги», а также в Книге третьей «Мифологии предказахов» (http://www.otuken.kz/index.php/serikbollistofcat/39-2011-04-08-12-45-03/184-2011-04-11-06-35-11). Здесь мы упомянем лишь два момента в сравнительном анализе тюркского и скандинавского образов.
Во-первых, валькирии, как и девушки-пери, могут принимать облик лебедя. Они купаются в уединенных местах, скинув птичье одеяние. В эпосе о Нибелунгах бургунды, едущие к хуннам, делают остановку на берегу Дуная, на границе с хуннами. Герой по имени Хаген отправляется искать переправу и встречает девушек-лебедей, которые предсказывают ему его будущее. Интересно место действия: Сванфельд находится на границе с хуннами.
Тот, кто сумеет овладеть лебединым опереньем, получает власть над девушкой, может жениться на ней. Значительная часть казахских генеалогических легенд. а также легенд об охотниках, сказок и быличек о пери включает этот сюжет. Лебедь соглашается выйти замуж за героя, но ставит ему ряд условий, указывающих на ее сверхъестественную природу. В конце концов, герой нарушает одно из условий, и девушка, превратившись в лебедя, улетает, оставляя мужу зачатого от него сына.
Во-вторых. С. Кондыбай доказывает, что мотив остановки небесного аула девушек-пери на земле и их встречи с охотником связан с астральной мифологией, моментом, когда созвездие Плеяды исчезает с весеннего неба. Казахское название Плеяд – «Үркер», народная этимология объясняет его через слово «үркү» – «пугаться, бежать в испуге», что напоминает о «гневливости» валькирий, а также об уже упоминавшемся ужасе «үрей». Но еще более интересно то, что в турецком и ряде других тюркских языков название Плеяд имеет форму «Улькер». В языках, для которых характерен губной протез (подстановка звука «в» перед гласными в начале слова, например, в чувашском языке), это слово принимает форму «вулькер» (ср. др.-сканд. Valkyrya ).
С.Кондыбай показывает возможность объяснения через тюркский язык принятой в науке этимологии слова «валькирия» (отбирающая мертвых), отмечает и другие общие для тюркской и скандинавской мифологии аспекты образа, приводит казахские астральные мифы, очень похожие на скандинавские легенды об эйнхериях и пр. Он также этимологизировал иранское «фраваши», а также инд. «Урваши» через тюрк. «ұрғашы» («ұрық әже»). В контексте темы нам не столь важно доказать тюркский приоритет, сколько показать, что тема священного брака с женской сущностью тонкого мира характерна и для тюркской традиции. Как мы уже говорили, в тюркской мифологии присутствует архетип женщины-медиатора между мирами. В другой терминологии это и есть женские существа тонкого мира, и герои-первопредки тюрков вступают в брак с ними, имеют от них потомство.
В легендах и быличках говорится об опасности, которая может исходить от девушек-пери для человека. Человек может вступить в союз с пери или даже повелевать ими в случае, если: во-первых, человек убил извечного врага пери – жезтырнак, и они благодарны ему, во-вторых, человек знает заговоры против пери, в-третьих, человек первым заметил пери, и они не видят его. Таким образом, речь идет о героическом поступке или духовном знании, духовном зрении, т.е. о качествах человека на Пути реализации – воинской или жреческой, человека, совершающего инициатический брак.
Культ Прекрасной Дамы в средневековой Европе
Исследователи западной культуры часто отмечают, что сформировавшийся в ХI веке рыцарский культ Прекрасной Дамы стал толчком к формированию нового типа отношений между полами. Как считается, в это время впервые в истории человечества культивируются идеалы духовной любви, возникает рыцарская лирическая поэзия и музыка. Исследователями признается влияние в ходе крестовых походов арабской мусульманской культуры на французских трувэров, шире, на средневековую рыцарскую культуру, однако в целом куртуазная культура считается уникальной в истории человечества.
Эту уникальность мифолог Дж. Кэмпбелл объясняет, сравнивая в этом аспекте рыцарскую культуру с эзотерическими практиками Индии и Ближнего Востока. В тантре, например, герой вступает в отношения с женщиной низшей касты, по существу, с рабыней, т.к. она лишь олицетворяет женскую силу (шакти), является средством достижения духовного экстаза и должна быть забыта, исчезнуть при достижении этой цели. В Европе важна уникальная неповторимая личность возлюбленной, как правило благородного происхождения. Когда Данте достигает трона Господа, у подножия его он опять встречает Беатриче (Кэмпбелл Дж. Маски Бога. С. 72).
«В течение веков, последовавших за утверждением новой модели отношений, вошедшие в ритуал слова и поступки, а через них соответствующие взгляды распространялись на все более широкие круги общества, как всегда бывает с культурными моделями, которые складываются в аристократических кругах, а затем постепенно проникают до самых нижних слоев социальной структуры. Так сформировался тип отношений между полами, характерный для западного общества. Еще и сегодня, несмотря на огромные перемены в этой области, яркой отличительной чертой европейской цивилизации являются традиции, унаследованные от куртуазной любви» (Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 90-96).
Согласно К.С. Льюису, трубадуры «способствовали переменам, которые вошли в нашу этику, в наше воображение и в повседневную частную жизнь. Они же воздвигли непреодолимые барьеры между нами и классическим прошлым, с одной стороны, и Востоком настоящим с другой. По сравнению с этой революцией Ренессанс был просто «мелкими брызгами» на поверхности литературы» (Цит. по Бернар А. Лиэтар. Душа денег. М., 2007. С.188).
Период средневековья с Х по XIII век, отмечаемый специалистами как экономический расцвет, время общего высокого уровня жизни, время активного строительства соборов, обновления производственной базы общества и пр., отмечен и совершенно особым положением женщины в европейском обществе, ее активным участием в политике, экономике, искусстве. Треть завещаний того периода в Англии составлены состоятельными женщинами, обладавшими теми же правами на собственность, что и мужчины (женщина не могла распоряжаться своим имуществом в классической античности, также как и после XIII века вплоть до середины ХХ века). Женщины составляли слой грамотных людей, чтению, письму, пению и рисованию обучались не только аристократки, но и дочери прислуги и ремесленников. Не удивительно, что первый учебник во Франции в 841-843 годах написала женщина по имени Дуода. Среди первых трубадуров Южной Франции были известны не менее 20 женщин-поэтесс, творивших на вновь формирующемся литературном языке. Женщины не имели почти никаких прав по римскому законодательству, использовавшемуся в Европе вплоть до прихода гуннов в V веке, и лишь во второй половине ХХ века им удалось вернуть многие из тех прав, которыми они обладали в Х-XIII век.
Историки объясняют этот феномен Х-XIII веков влиянием германской системы права. В этот период «стоимость супружества так высока, что если человек имеет две или три дочери, то они для него – целое богатство; если же у него рождаются мальчики, это становится причиной его бедности. Аналогичные жалобы появляются в Европе снова в конце Средних веков (1300-1500 гг.), только женский и мужской пол при этом поменялись местами» (Цит по: Бернар А. Лиэтар. С. 194. Историк-феминистка восхищается калымом!).
Итак, формирование средневекового рыцарства связывают с Великим переселением народов и воинскими традициями кочевников (Ф. Кардини). Влиянием германского права сами европейцы объясняют привилегированное положение женщины в Х-XIII век. Будет ли при этом логичным утверждать уникальность европейского рыцарского идеала любви? Быть может, особое отношение к женщине и расцвет лирической поэзии и музыки в средневековой Европе, Индии и на Ближнем Востоке будет правильнее объяснять именно влиянием кочевников Великой Степи? Именно так считал Григорий Потанин, возводя рыцарскую литературу Европы к тюркскому эпосу. По мнению Т. Асемкулова, тюркские эпические мотивы прослеживаются еще в средневековых исторических романах Вальтера Скотта.
Д. Мадигожин объясняет формирование уважения и доверия к женщине, ее самостоятельность в культуре кочевников, в конечном счете, степным ландшафтом. «Великая Степь в жестоком многовековом отборе принудила кочевой род стать открытым и создать наилучшую духовную среду для генетической эволюции человека и для реализации его врождённого Закона Неба. Так она создала высокую рыцарскую любовь. Изначальный Закон не знает исключений по признаку пола, веры, расы или языка… Код доверия врезан в нормальный генотип обоих полов человека со времён докультурной первобытности. Тем не менее, архаичные нравственно заблуждающиеся культуры ухитрялись создавать самые уродливые формы взаимоотношений полов… Все эти извращения, преступные перед Законом Неба, были сначала преодолены и большей частью истреблены именно в степной культуре Великой Степи. Новая нравственная эра дошла до Европы в эпоху Переселения народов, когда степные носители природной человечности пришли с востока и вразумили зашедшую в тупик культуру Рима… Западноевропейское рыцарство к XIII веку полностью утратило свою духовную культуру» (Мадигожин Д. Логика Небесного Закона).
И если европейские историки усматривают мировую уникальность европейской куртуазной любви в признании индивидуальности возлюбленной, то мы вполне можем их «разочаровать». Практически все выдающиеся образцы творчества казахских сал-сери в течение многих веков воспевают единственную возлюбленную, чувство к которой пронесено через годы и годы военной разлуки. Например, Т.Асемкулов передает легенду песни «Гульдарига», cозданной в XVIII веке Асыл-Гиреем-сери.
В девушку по имени Гульдарига были влюблены три батыра, один из них – Асыл-Гирей – рос с ней с детства, но девушка выбрала другого, а сери воспел свою любовь, быстротечность жизни и смерть в облике грызущего удила вороного в восторженной песне. Шаман, осматривавший раненных в битве воинов, узнал, что умирающий Асыл-Гирей – последний в своем роду и уходит, не оставив потомства. Для тюрков-кочевников прервавшийся род – это катастрофа почти вселенского значения, поэтому шаман привел к смертельно раненному воину свою незамужнюю дочь, кратко совершил обряд бракосочетания, дал Асыл-Гирею сильнодействующее лекарство и, сказав «Батыр, ты уже покидаешь этот мир, вот твоя возлюбленная, пролей свое семя!», оставил новобрачных. Потомство Асыл-Гирея от этого брака входит в найманский род болатшы. А потомство Гульдариги от ее мужа (история турецкого гвардейца-акынджи, бежавшего от преследований турецкой полиции через полконтинента, усыновленного найманским стариком и ставшего одним из доверенных батыров Аблай-хана – это отдельная увлекательная история, турецкая часть которой кстати подтверждается архивами Порты) поныне живет в Восточном Казахстане.
Итак, воинский этос кочевников сформировался как реализация сформулированного Д. Мадигожиным врожденного этического закона, а рыцарские идеалы средневековой Европы были коротким эпизодом в его истории. Настоящее понимание рыцарских идеалов и рыцарского поведения, суть которого заключается в особом «отношении к врагу и отношении к женщине» (Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследование по истории морали. М., 1987. С. 87), невозможно без знания традиций кочевников.
Так, например, глубокий знаток средневековья И. Хейзинга пишет: «Глубокие черты аскетичности, мужественного самопожертвования, свойственные рыцарскому идеалу, теснейшим образом связаны с эротической основой этого подхода к жизни и, быть может, являются всего-навсего нравственным замещением неудовлетворенного желания… Любовь постоянно сублимируется и романтизируется…» (Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. С. 82). По сути историк объясняет жертвенность рыцарей психоаналитически как сублимацию неудовлетворенного желания, вместо того, чтобы обратиться к другим воинским традициям, где мужественная жертвенность и эротический подход соединены без посредства аскетизма и неудовлетворенности. Утрачено первоначальное представление об архетипах воинского Пути, о символизме невесты / Возлюбленной, сохраняется лишь чувственно-эмоциональная поэтизация любви, перерабатываемая затем в христианском духе.
Исследователи рыцарства отмечают, что воспеваемая Прекрасная Дама по своему статусу всегда выше рыцаря или трубадура, она – жена сеньора, владелица замка. Эта ситуация объясняется социологически или психологически: подрастающие аристократы воспитываются в доме сеньора, выбирая объектом воздыханий его жену, или трубадур воспевает красоту хозяйки, надеясь получить вознаграждение от ее мужа, и т.п. Возможно, такие мотивы действительно имели место, но прежде всего следует помнить об архетипе женщины-медиатора между мирами из высшего мира, о женщине тонкого мира, о возлюбленной как цели воинского Пути в тюркском эпосе. Конкретные психологические и социологические факторы лишь наложились на эту первоначальную матрицу, так что со временем появилась возможность трансформировать эротически окрашенный культ Прекрасной Дамы в религиозный культ Богоматери.
Искусство как агрессия
Если вбить в поисковик Сети фразу «воинская музыка», она будут исправлена на «военная музыка», и речь пойдет о военных оркестрах и маршах, о музыке, «зародившейся как средство для обеспечения непосредственно воинских ритуалов и со временем ставшей неотъемлемой частью проводимых мероприятий государственной, политической и светской жизни общества». Еще нам расскажут о том, что музыка и пляски были частью боевой подготовки, и отношение к ним, например, в Спарте было самым серьезным. Древние источники сообщают: «Когда войско выстраивалось в боевом порядке в виду неприятеля, царь приносил в жертву козу и приказывал всем солдатам надевать венки, флейтистам же играть «песнь в честь Костра». Сам он начинал военную песнь, под которую шли спартанцы». В шеренгах гоплитов каждых десятый был музыкант. Военным инструментом афинян была лира, спартанцев – флейта. Солдаты пели во время сражения боевой пеан и отбивали ритм ногами. Это делалось не ради умилостивления божества, но для того, чтобы все подвигались вперед одинаковым мерным шагом, и чтобы не разрывалась боевая линия, как случается часто с большими войсками в атаке» (Ромм В.В. Государство и культура (примеры античности) // http://www.budi.ru/article/azot/dance.htm).
Все это интересно, и можно порассуждать, почему спартанцы использовали тихоголосую флейту в качестве сигнального инструмента, а не придумали, например, барабаны. Но нас больше интересует вопрос, почему, например, у орфиков «Эрато – муза лирической и эротической поэзии соответствует плану Марса, бога войны»? (Кэмпбелл Дж. Маски Бога: созидательная мифология. М., 1997. С. 116). И в поисках ответа на такие вопросы мы вынуждены обращаться к генезису искусства вообще.
Существует достаточно убедительная концепция возникновения искусства из магии как способа воздействия на мир. Первобытные рисунки зверей часто несут следы ударов копья или уколов стрел. «Древние верили в магическую силу картинки: «убив» нарисованное животное, они обеспечивали себе удачную охоту… Творя, человек мог совершить акт агрессии: малюя углем на скальнике, убивал животное; произнося заговоры, властен был причинить желаемый урон. Созидая, прямо изменял мир, как бы физически воздействуя на него. Это, как удар кулаком, только в другой доступной форме. Таким образом, искусство (литература) являются одной из форм выражения насилия (агрессии). Заговоры – яркое тому подтверждение. Это древнейший фольклорный жанр. Заговоры могут быть черными (нанесение вреда) и белыми (избавление от недугов). Они представляют собой агрессию, адресованную другому живому существу» (Жмуров Д.В Насилие (агрессия) и литература. http://psichology.vuzlib.net/book_o455_page_1.html. Ж. Батай в статье «Жертвенное членовредительство и отрезанное ухо Ван Гога» развивает идею об искусстве как агрессии, направленной не на внешний объект, а на самого себя, но эта экстравагантная теория к нашей теме отношения не имеет).
Заговор как способ активного воздействия на мир или даже как агрессия, направленная на врага, гораздо ближе к нашей теме, т.к. из него возникает поэзия, которая по происхождению гораздо ближе к магии, чем к искусству в современном понимании. Среди жанров этой поэзии – космогония – описание сотворения (рождения) мира, рецитируемая в переломные, пограничные моменты времени, чтобы способствовать рождению нового цикла, обновлению, возрождению мира. А также хвала, в т.ч. хвала духам умерших предков, великих воинов прошлого, призванная умилостивить этих духов и призвать их на помощь, откуда собственно возникает эпос. И еще поношение врага, призванное магическим образом (а уже позже и психологически) нанести ему урон. И обмен поношениями, своеобразный диалог, словесный поединок, айтыс двух родов в первоначальном его качестве (по гипотезе Е. Турсунова, казахское слово «ақын» родственно турецкому «акынджи» – «элитное войско», в основе обоих – слово «акын / агын» – «поток, течение, атака»).
Еще во время казахско-джунгарской войны словесный поединок двух воинов предваряет их единоборство («жекпе-жек»), которое, в свою очередь, должно предопределить судьбу общего сражения. Возможно, взаимные угрозы профессиональных боксеров перед матчем, тиражируемые СМИ, – это не просто рекламный трюк… «Словесный конфликт со взаимным поношением… может подняться до благородного рыцарского обычая, в котором противники демонстрируют свое владение героической формой» (Хейзинга Й. Homo ludens. С. 168).
Нам теперь странно представить, что словесный поединок – взаимное поношение – может обрести некую ограничивающую форму и даже подняться до рыцарского обычая. Тем не менее, доисторические воинские инициации через ряд посредующих ступеней в обществе, где свободный человек имел достаточный досуг и стремление к борьбе (а это чаще всего феодальный класс), обретают характер священной игры-состязания, оформленной целым агональным комплексом идей, нравов, установлений, ритуалов. «Состязательность ради первенства, несомненно, является для культуры в ее начальной форме формирующим и облагораживающим фактором… И не только это: в постоянно возобновляемых, освященных ритуалами боевых игрищах прорастают сами формы культуры, развивается структура общественной жизни. Аристократический быт принял форму возвышающей игры, игры чести и доблести… Идея благородного соперничества, таким образом, является одним из самых мощных импульсов культуры» (Хейзинга Й. Homo ludens. С. 167).
У казахов, например, наряду с поединками акынов существовали музыкальные состязания в самых разных формах, а также состязания в борьбе, во владении различными видами оружия, в острословии, в сказывании сказок, в ритуальном обжорстве («мешкей»), скачки, кокпар и др. конные состязания. Судебные разбирательства проводились в форме состязания биев. Таким образом, вся разнообразная жизнь казахского традиционного общества происходила в форме состязаний, придающих игровую ритуальную форму природной агрессии.
Т. Асемкулов в статье о традиционной домбровой терминологии описывает виды состязаний музыкантов-домбристов, называемые «тартыс». «…В казахской музыкальной среде издавна, наряду с такими видами состязаний как «түре тартыс» и «сүре тартыс», существовали еще и «құлақ шығарып тартысу» и «есер тартыс». Если в двух первых видах состязаний домбристы демонстрируют свое исполнительское мастерство, количество и художественные достоинства исполняемых кюев, то последние два состязания резко отличаются от них. Состязание «құлақ шығару» имеет такие условия: в том случае, если оба домбриста не смогли победить друг друга в первых двух состязаниях, возникает щекотливая ситуация, когда надо все-таки определить сильнейшего. И тогда домбрист-арбитр, ведущий состязание, задает обоим соперникам одну музыкальную фразу, из которой они должны развить кюи, совершенно непохожие друг на друга. И, самое главное, кюй должен начинаться и замыкаться именно этой фразой, и должен быть высокохудожественным. Говорят, бывали такие случаи, когда неожиданно сымпровизированные кюи не уступали друг другу по красоте звучания, и судьям приходилось ломать голову, не зная, кому из состязающихся отдать предпочтение…
Ну а «есер тартыс» напоминает нечто вроде музыкального каламбура или современного театра абсурда. Он проводился в перерывах между состязаниями известных домбристов (возможно, здесь был какой-то психологический расчет). В этом виде состязания побеждает тот, кто достиг самого фантастического несовмещения звуков, точнее – совмещения, но по законам абсурда и антигармонии. Говорят, в этом виде искусства были свои классики и даже свои незыблемые каноны. Более того, кюи должны были быть не просто абсурдными, но еще и красивыми (элементы «есер тартыса» присутствуют в кюе Таттимбета «Сылқылдақ»). Упомянутый нами ладок «неуместный» использовался именно в таких состязаниях. И слушатели поражались нелепости звука, извлекаемого на этом ладке, а развиваемая из этого звука несусветно глупая тема вызывала их дружный смех…» (Әсемқұлов Т. «Домбыраға тіл бітсе» // «Жұлдыз», 1989, №5; сокр. перевод на рус. яз. http://otuken.kz/index.php/aboutmusictalas/137-2010-08-12-14-49-58).
Вызывает удивление не только разнообразие видов состязаний музыкантов-инструменталистов, отработанность форм, но и способность общей аудитории оценить нюансы музыкального поединка. И так буквально в каждой сфере традиционной культуры.
Возвращаясь к казахскому айтысу, сошедшиеся в айтысе акыны были жестоки не только к противнику лично, но и к его родовому коллективу в целом. По мнению Т. Асемкулова, межродовые айтысы, были прекращены в военные столетья Казахской орды, т.к. несли угрозу национальному единству, слаженным действиям родов и племен в войне, и возродились лишь в колониальный период, когда усилиями царской администрации общенациональная идея стала ослабевать. И при такой ожесточенности словесного поединка, главным бесчестьем считалось неумение оценить красивый удар соперника и самому признать свое поражение. Более того, именно на проигравшего возлагалась обязанность оповещать народ о состоявшемся айтысе и его содержании, т.е. сохранившиеся до нашего времени тексты знаменитых айтысов стали известными, сохранились в народной памяти благодаря усилиям проигравших.
Искусство управления агрессией
Искусство, музыка в том числе, может быть не только формой агрессии, способом активного воздействия на мир, и не только формой выражения состязательности, но и способом воздействовать на агрессию – осознать и прочувствовать ее, усилить или, наоборот, уменьшить, отреагировать в социально приемлемой форме. И первым шагом на пути к управлению агрессией является осознание ее как собственного качества.
Например, берсерк полностью утрачивает контроль над своими эмоциями и действиями, его гнев предстает как бы автономной, независимой от его сознания сущностью. Еще А.А. Тахо-Годи, анализируя Гомера, говорит о гневе и других эмоциях архаических героев как самостоятельных психологических сущностях, действующих независимо от воли эпического героя. В античном мировоззрении она выделяет понятия самого человека, его антропоморфных телесной и духовной душ, гнева-доли, а также некоей божественной силы, вкладываемой в человека и являющейся, по сути, его активно действующей личностью (Тахо-Годи А. Мифологическое происхождение поэтического языка “Илиады” Гомера // Античность и современность.М., 1972. С.196-214).
В тюркской традиции также существует это представление о нескольких (шести, семи, девяти) душах человека, С. Кондыбай подробно анализирует его в разделе 14 «Восемь и девять» Книги первой «Мифологии предказахов». Такое представление является рудиментом более сложного комплекса идей, который мы, опираясь в основном на предвосхитившую свое время книгу О.М. Фрейденберг «Миф и литература древности» и фундаментальное исследование А. Сагалаева и др. «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири», подробно анализировали в кандидатской диссертации 1995 года «Мифоритуальные основания казахской культуры» (http://www.otuken.kz/index.php/skpubl/49?task=view). Поскольку мифологическое мышление выделяет в человеке и наделяет отдельным существованием множество самых различных физических, ментальных и эмоциональных черт, состояний, характеристик его бытия, единственное понятие души недостаточно для их описания.
С. Кондыбай сравнивает описание у античных авторов развевающихся на ветру аланских знамен в виде свистящих ужасающих драконов и описания урана в эпосе «Сорок крымских батыров» – урана, который прилетает на зов батыра в облике дракона в туче пыли, свистит, оборачиваясь вокруг пояса батыра, а затем, когда враг в панике отступает, исчезает (Кондыбай С. Мифология предказахов. Книга 2. Алматы, СаГа. 2008. С. 319-321). Исследователь также реконструирует первоначальный смысл слов «ұран», «үрей», «көңіл», «ес», аруах, честь (намыс, абырой) батыра, «зәре», «ту», «сіле», «сүр» и т.д., которые изображаются как самостоятельные сущности – антропоморфные, в облике змея-дракона, в виде вскипающей священной влаги и т.п.. Этот перечень можно продолжить.
Юнг К.Г. комментирует эту ситуацию так: «Примитивный разум отмечен высокой степенью диссоциативности, выражающей себя, например, в том, что примитивные люди убеждены в наличии у них нескольких душ…, не считая огромного количества богов и духов, которые являются… зачастую весьма впечатляющим психическим опытом» (Юнг К.Г. Избранное. Минск: Попурри. 1998. С. 157).
В эпосе «Кобланды» Кортке – жене простодушного и эмоционального Кобланды – не раз приходится совладать с гневом батыра с помощью мудрости и ласки. Эти эпизоды эпоса иллюстрируют положение традиционализма о том, что страсть и агрессия героя нуждаются в регуляции. Внутренняя женщина придает должное направление раджасу к центру бытия.
Традиционные символы и искусство также выполняли эту функцию регуляции психо-эмоциональной сферы. «Если рассматривать наиболее распространенный тип шанырака, как он зафиксирован на гербе РК, где каждый из двух перпендикулярно пересекающихся диаметров сопровождается парой параллельных хорд (всего 6 күлдiреүшей), мы получаем круг, внутри которого находится квадрат, составленный из четырех меньших квадратов, или круг с квадратом и крестом в центре. Таким образом, шанырак представляет собой правильную мандалу. Используя этот термин индуизма и ламаизма, где он означает магический круг, образ для медитации, место обитания и происхождения богов, К.Г.Юнг определяет мандалу в качестве символа середины, цели и Самости как психической целостности, как единства сознательного и бессознательного. Центральным архетипом человеческой психики, архетипом упорядочивания и целостности человека является архетип Самости, символизируемый обычно кругом, квадратом, четверичностью и т.д. Архетип Самости представляет собой то, что Отцы христианской церкви называли Богообразом, запечатленным в человеческой душе (“Imago Dei in homine”). Излишне говорить, что шанырак, благодаря своему строению, представляет возможно полное выражение архетипа Самости, или в другой терминологии, внутреннего “Я” – истинного и вечного. Причем такое строение шанырака не определяется конструктивными потребностями, т.е. является “произвольным”, определяемым его символическим смыслом» (Наурзбаева З. Изначальный ислам – тенгрианство в наследии жырау и национальная идея // http://otuken.kz/index.php/mythzira/42-2010-06-19-07-35-07). Также и казахский орнамент в уникальном равновесии переплетающегося узора и фона усиливал чувство равновесия, устойчивости.
Музыка также, в частности, была одним из способов саморегуляции, т.е. восстановления целостности личности. Музыкотерапия нашего времени не имеет приоритета в этом вопросе, но нам показалось интересным обратиться к современному опыту отреагирования гнева с помощью музыки.
Например, известный детский психотерапевт В. Оклендер считает, что “ребенок должен осознавать свой гнев, это является первым шагом на пути обретения им уверенности и психической целостности; он должен преодолеть в себе привычку в страхе подавлять раздражение и гнев или выплескивать их в опосредованном виде, поскольку это может травмировать самого ребенка и вести его к эмоциональному отчуждению от окружающих”. В ходе игровой терапии музыка и звукоизвлечение облегчают выражение любых чувств, способствуют эмоциональной экспрессии. Извлечение звука может стать и способом непосредственного выражения чувства гнева, которым ребенок может пользоваться и вне занятия. Дети не просто выводят злость и раздражение, громко ударяя в барабан, гонг и т.п. (все это инструменты для подачи сигналов во время войны. – З.Н.). Они учатся понимать взаимозависимость силы, частоты ударов и громкости звука – чем сильнее гнев, тем громче и неприятнее звук. Хорошим способом саморегуляции еще с древних времен считается и тонирование. Музыка воздействует на человека не только непосредственно в момент прослушивания, но и при воспоминании об услышанном — через эмоциональную и звуковую память (Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. М., 2010).
Музыка и женское начало
Ф. Шюон характеризует психологический тип кшатрия (воина) как интеллектуальный, но вместе с тем страстный, эмоциональный, сильный, агрессивный, великодушный, щедрый, ориентированный на личные взаимоотношения. Если подумать, то именно кшатрийский тип по своей природе стоит ближе всего к музыке как таковой, его качества выражаются в искусстве музыки, которую Ф. Ницше считал наиболее адекватным отражением творящей мир Воли. Кшатрий же олицетворяет Творца, придавая Ему ценные для воина качества – великодушие, честь, любовь к красоте.
Брахман в чистом виде склонен к холодному абстрактному мышлению, и если даже он обращается к музыке, то возникает своего рода «теология в музыке», точнее будет сказать, «метафизика в музыке», соответствующая бесстрастной природе жреца. Тип вайшьи (материального производителя) обращен к объекту, вещному миру, он также малоэмоционален, он склонен порождать музыку «ритмизирующих трудовых возгласов», которая навряд ли разовьется в нечто более высокое. Современную музыку в целом можно охарактеризовать как музыку шудр, неприкасаемых, находящихся вне инициационного Пути. Они, как и кшатрии, обладают субъективностью, но сила и благородство кшатрия чужды им, что и выразилось в современной популярной музыке., которую можно охарактеризовать словами Ф. Ницше: «…это – веселье раба, не знающего никакой тяжелой ответственности. не стремящегося ни к чему великому, не умеющего ценить что-либо прошлое или будущее выше настоящего» (Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 98).
Мы уже писали о «некоей изначальной и фундаментальной неприемлемости музыки с точки зрения Церкви». Для православного христианства, например, музыка, в особенности, инструментальная музыка воспевает красоту этого, земного мира, утешает человека в его потере изначального рая, и тем самым отвлекает его от искания Бога, преклонения Богу (Наурзбаева З. Шепот Тенгри – харам? // http://otuken.kz/index.php/publzira/222-2012-02-27-06-54-41). Такое отношение религии к музыке отчасти напоминает отношение к женщине, и этому есть свои причины.
В традиционализме различают женщину внешнюю и женщину внутреннюю, имея в виду двойственность женской природы, ее способность как направить мужчину к центру бытия, так и отбросить его на периферию реальности, придать центробежную силу. Об этом аспекте женской природы Ф. Шюон пишет так: «Поистине, женская психология в чисто натуральном плане, при отсутствии духовного регулирования ценностей, характеризуется тенденцией к мирскому, конкретному, экзистенциальному, если хотите, и в любом случае – к субъективному и чувственному… Роль музыки, как и женщины двусмысленна, и то же самое относится к танцевальному искусству и поэзии: наблюдается либо самовлюбленное раздувание эго, либо интериоризация и блаженное растворение в сущности. Женщина, воплощая в себе Майю, динамична в двояком смысле: в смысле экстериоризующего и отдаляющего излучения, или интериоризующего и реинтегрирующего влечения; в то время, как мужчина фундаментально статичен и неизменен»» (Шюон Ф. Очевидность и тайна. С. 284-285).
В соответствии с этим оценивается и любовная музыка. «В основе своей каждая любовь является поиском Сущности, или потерянного Рая… Цыганские скрипки тоскуют не только по высотам и безднам той любви, которая слишком человеческая, но в своей глубочайшей и жгучей печали они воспевают жажду вина небесного, которое есть сущность Красоты; вся эротическая музыка, настолько, насколько она является адекватной и благородной, примыкает к звукам флейты Кришны, одновременно чарующей и освобождающей» (Шюон Ф. Очевидность и тайна. С. 283).
Если отвлечься от ортодоксальной религии, то и эзотеризм часто склонен использовать и одновременно третировать как женское начало, так и музыку, даже имея в виду их интериоризирующую способность. Например, во многих течениях суфизма музыка используется для достижения экстаза, но при этом суфий не должен быть музыкантом, а музыкант считается низшим существом, обслугой. Точно так же в тантрических практиках женское начало представляют женщины низкого происхождения, рабыни, лишенные индивидуальности и рассматриваемые как простой инструмент.
В отличие от такого потребительского отношения, в собственно воинских культурах музыка, как и женщина, обладает высоким статусом, именно в качестве интериоризирующего начала. У казахов элита общества была не только экспертной аудиторией. Многие ханы, например, Аблай-хан, Арынгазы-хан оставили после себя музыкальное наследие. В инструментальной музыке существовал даже особая чингизидская школа «төре күй» – «кюй торе-чингизидов», характеризовавшаяся утонченностью, сдержанной благородной манерой исполнения. Яркими представителями этой школы были Даулеткерей, Усен-торе и др. Основатель наиболее известной школы песенного исполнительства Западного Казахстана Мухит принадлежит той же ветви чингизидов, что и Даулеткерей.
«Умение исполнить ту или иную песнь, поэму или балладу признавалось очень престижным для раджпута, в том числе и высокопоставленного. В связи с этим в раджпутской среде было очень развито умение играть на различных музыкальных инструментах… До сих пор раджпуты очень любят свои древние мелодии, и у них очень много не только героических, но и обрядовых и лирических песен; это очень песенный народ» (Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. С. 127).
В тюркской мифологии музыкальные инструменты являются одушевленными, они появляются (изобретаются) в результате смерти человека или особого животного, в результате жертвоприношения (см. мои статьи о тюркской мифологии музыки «Судьба тенгрианства и легенда о Нуртоле», «Камбар и возрождение Золотого века», «Шепот Тенгри – харам?» на сайте otuken.kz). Если эллинский Гермес создал лиру из панциря черепахи, являющейся древним символом вселенной, то Коркут сделал деку кобыза из шкуры своего крылатого верблюда-желмая, обладающего тем же символизмом. Струны домбры, как подчеркивает Кашаган-жырау, сделаны из кишок овцы, «что была в раю», а в мифах струнами первой домбры становятся кишки дичи и даже убитых детей (Валькирии германо-скандинавской мифологии участвовали в определении судьбы человека при его рождении, они ткали ткань из человеческих кишок, поэтому также символизировали рок).
В тюркском шаманизме музыкальный инструмент – это не только ездовое животное шамана, на котором он путешествует в трех мирах, но это и ветвь Мирового древа, дарованная шаману в знак его избранничества. Обычно шаману после посвящения во сне снится конкретное дерево в лесу, из которого должен быть сделан его бубен и которое замещает Мировое древо. По закону метонимии (часть вместо целого), ветвь эта может символизировать Мировое древо, соединяющее миры, являющееся мостом (лестницей) между ними, и именно поэтому шаман может путешествовать в мирах с помощью музыкального инструмента. Это представление сохраняется как архетип в казахской традиционной музыке (см. об этом подробнее:. Наурзбаева З. Тенгрианство – изначальный ислам… // http://otuken.kz/index.php/mythzira/42-2010-06-19-07-35-07).
Особо ценятся деревья, пораженные молнией. По мнению Т. Асемкулова, это вполне объясняется технологически: молния буквально выжигает смолу, заменяя этап термической обработки древесины. Но не следует забывать, что молния – это символ духовного и интеллектуального озарения, символ мгновенной реализации потенциальной субъектности.
По информации Т. Асемкулова, в архаичных кюях жанра «Балбрауын» музыкант во время игры совершал недвусмысленные движения пальцами около отверстия на передней деке. И лишь в 19 в. жанр, отражавший архаическую сексуальность, мотив оплодотворения, был облагорожен таким великим музыкантом, как Таттимбет, приобрел эстетическое значение. Учитывая изоморфизм человеческого тела и музыкального инструмента в казахской традиционной музыке (см. Аманов Б. Композиционная терминология домбровых кюев // Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и ХХ век. Алматы. 2002. С. 217-228), можно говорить о существовании в древности мифологического представления о музыкальном инструменте как сексуальном партнере шамана-музыканта. Таким образом, небесная супруга шамана и музыкальный инструмент, сделанный из предназначенного ему свыше дерева, тождественны. Когда музыкант умирал, его домбру в знак траура вешали «лицом» (передней декой) к стене (об этом читайте этнографический рассказ З. Наурзбаевой «Соперница» // http://otuken.kz/index.php/prozazira/47-2010-06-19-14-27-51).
Кстати, согласно европейским сонникам музыкальный инструмент во сне символизирует сексуального партнера. Этот устойчивый архетип бессознательного попал даже в русскую классическую литературу. У А. Чехова в «Дуэли» Лаевский видит сны: «То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой…»
Женщина с овечьей головой
Говоря об интериоризирующей функции женского начала и музыки, нельзя не остановиться на образе Қойбас-ана (Мать с овечьей головой). По сведениям Т. Асемкулова, Койбас-ана – младшая сестра Коркута. Если Коркут изображался с бараньими рогами на голове, то Койбас-ана представлялась женщиной с головой овцы или женщиной с маленькими овечьими рожками. Рогатый бог или богиня известны с каменного века, еще в окуневской культуре найдены изображения женщины (богини) с рожками. В многих традициях Евразии, в том числе у тюрков, рога символизируют солнечный свет (или луну, символизм в частности зависит от формы рогов – оленьих, бычьих или бараньих), силу, славу, мудрость и т.д. В казахском фольклоре выражение «мүйізі шықты» (выросли рога) используется именно в этом значении. Рассмотрение образа рогатой богини выходит за рамки нашей темы. Мы просто констатируем, что рудименты этого образа сохранились в фольклоре казахов.
Койбас-ана является проводником умерших душ в другой мир, она покровительствует роженицам и больным детям, а также традиционным ветеринарам «оташы», одной из функций которых было кастрирование «лишних» самцов (что возможно отсылает к культам Великой Матери-Богини Передней Азии, в которых практиковалось нанесение себе увечий мужчинами в знак поклонения богине). В казахской традиции Коркут является создателем кобыза и покровителем кобызовой музыки. а его младшая сестра покровительствует домбровой музыке и домбристам, она одаривает домбры посвященных музыкантов душой, оживляет их. Коркут связан с водной стихией, очевидно с ней связана и его младшая сестра.
В кельтской мифологии есть образ Земли вечной юности, Земли в сказочных холмах, Земли под волнами, из которой приходят в человеческий мир музыканты-маги, музыка которых очаровывает мир. Эта волшебная Земля по существу является загробным миром, находящимся на острове посреди океана, в пещере под холмом и пр. Связь воды и музыки обща для многих традиций. В казахской легенде о Нуртоле прямо присутствует и мотив «музыки из под волн».В некоторых легендах населяют эту землю племена богини Дану (туата де дананн), «самые красивые, самых изысканные в одежде и вооружении, самых искусные в игре на музыкальных инструментах, самые одарённые умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирландию». С. Кондыбай связывает имя богини Дану с тюркским женским водным образом Тана и родом тана.
Правитель Земли вечной юности является кельтским мегалитическим богом в обличье кабана. Дочь правителя этой страны представляется девушкой с головой свиньи, что напоминает Койбас-ана (поскольку речь идет о древнейшей доисламской мифологии, различие свиньи и овцы несущественно). В ирландской легенде она выходит замуж за Ойсина (Оссина), сына предводителя избранных воинов финиев (фениев, фианну), пользовавшихся в древней Ирландии огромными привилегиями. Желающий получить звание финия должен был обладать не только военной доблестью, но также быть поэтом и знать все «12 книг поэзии». Кандидат должен был быть не только искусным воином, но и поэтом и вообще образованным человеком. Он добровольно налагал на себя многочисленные запреты, например, никогда не отказывать в покровительстве всем, кто бы ни попросил его об этом, не поворачиваться в бою спиной к врагу, не оскорблять женщину и не требовать приданого за женой. Судя по этому описанию, фении похожи на сал-сери. Из-за недостатка информации трудно сказать, является ли это сходство типологическим или объясняется общим генезисом.
Кельтской мифологией тюркологам стоит заняться специально (например, образом Мананнана из туата де дананн, морского божества, «всадника вздымающихся волн моря» схож с реконструированными С. Кондыбаем образами «владыки морских лошадей» Кокше и пр.). Образ девушки с головой свиньи из страны музыкантов-магов, выходящей замуж за предводителя войска воинов-поэтов, похож на образ девушки с головой овцы, покровительницы музыки и сал-сери.
Койбас-ана, провожающая души умерших на тот свет, напоминает также скандинавскую Фрейю, второе имя которой Сир (свинья). Хотя Фрейя и была богиней любви, она также любила и войну, и часто, под именем Вальфрейя, во главе валькирий отправлялась на поля сражений, выбирая половину из погибших героев, чтобы забрать их с собой.
Интериоризирующая функция Койбас-ана подтверждается еще одной ее функцией. Койбас-ана является человеку не только перед смертью, но и в тот момент, когда человек должен выбрать свою судьбу, свое призвание. По легендам о некоторых прославленных музыкантах, она предстает перед ребенком или отроком во сне или наяву, держа в одной руке уздечку (символизирующую владение скотом, материальное богатство) и домбру в другой, призывая человека совершить свой выбор между принятым, «нормальным» образом жизни и образом жизни воина-музыканта, который с распадом традиционной культуры в 19 веке становится все более вызывающим, неприемлемым.
У кочевых индейцев-сиу есть схожий архетип. Молодые индейцы, особым образом подготовленные, видят сны, предопределяющие их жизнь. Они могут увидеть во сне Птицу-Гром (каз. Алып Каракус, самрук), бизона-гермафродита или луну и т.п. Такой сон означал, что сновидец не должен больше следовать образу жизни, соответствующему его полу. Так, девушка (во сне) может неожиданно встретиться с женщиной-двойником, которая приводит ее в одиноко стоящий типи. «Когда девушка подходит ко входу в типи и заглядывает внутрь, она видит двух женщин-олених, сидящих в глубине у задней стенки. Они приказывают ей выбрать сторону, по какой она войдет внутрь. По одной стороне вдоль стены в ряд расположены инструменты для обработки кож, по другой — ряд мешков с праздничными головными уборами из перьев. Если выбирается первая сторона, женщины-оленихи скажут: «Ты выбрала неправильно, но ты станешь очень богатой». Если же девушка выберет другую сторону, они скажут: «Ты на правильном пути и все, что ты будешь иметь, это пустой мешок». Странные формулировки, первая из них означает, что девушка предназначена для семейной жизни, а вторая – что ей придется «проявить активность в погоне за мужчинами» (стать непутевой женщиной, «қар» по-казахски).
Психолог Эрик Эриксон, ссылаясь в книге «Детство и общество» на этот обычай сиу, заключает: «Гомогенная культура, такая как культура сиу, борется с девиантами, отводя им вторичную роль – шута, проститутки или мастера своего дела, но не освобождая их полностью от осмеяния и смешанного с ужасом отвращения со стороны подавляющего большинства соплеменников, чтобы последние могли подавить в себе то, что девианты олицетворяют. Однако ужас и отвращение остаются направленными против могущества духов, внедряющихся в сновидения девиантной личности, и не восстанавливают остальных людей против самого пораженного индивидуума. Таким образом, «примитивные» культуры признают власть бессознательного. Если только девиант способен убедительно доказать, что видел соответствующий сон, считается, что его отклонение основывается на сверхестественной «божьей каре», а не на индивидуальной мотивации. Как психопатологи, мы должны восхищаться тем способом, который эти «примитивные» сообщества выбрали для сохранения гибкого влияния там, где более изощренные общественные устройства часто терпят неудачу».
Не беремся судить, насколько правильно мнение психопатолога относительно традиционной культуры (Р. Генон, например, считал коренной ошибкой психоанализа смешение сверхсознательного с подсознательным), но нас заинтересовало сходство архетипов тюркской и североамериканской индейской культур. Выбор человеком жизненного пути, отличающегося от нормативного, с помощью сверхъестественного существа: у казахов это женщина с рогами или овечьей головой, у индейцев – женщина-двойник, женщина-олениха, бизон или луна, которая может символизироваться рогатым существом.
По поздней легенде, младшая сестра Коркута стала нечаянной причиной его смерти. Спасаясь от смерти, Коркут плавал по реке Сыр-Дарья на расстеленном на воде коврике (или шкуре желмая), младшая сестра принесла ему еды, вместе с которой на «островок» проникла змея (или каракурт), укусившая Коркута. Как показала еще О. Фрейденберг, атрибуты божества являются его древними обликами, ипостасями, например, сова – атрибут Афины Паллады, но и саму богиню мудрости постоянно называют «совоокой», т.е. сова – это ее древний облик. В данном случае речь не идет об атрибуте, однако проникновение змеи на остров вместе с сестрой может рассматриваться как определенный намек. Вероятно, в первоначальном варианте мифа сама сестра и была этой змеей. Одна из ипостасей Коркута – беркут, т.е. легенда отражает древний миф о дуализме Орла и Змеи, а река в центре мира – это еще и Мировое древо.
С. Кондыбай в Книге четвертой «Мифологии предказахов» указывает на целый ряд прямых параллелей в образах Коркута и эллинского Аполлона, особо выделяя мотив борьбы Аполлона со змеем Пифоном (Питоном). Пифон был архаическим божеством Дельф (первоначально с этим образом связан дельфийский оракул, храм в Дельфах также назывался Пифо) и был убит Аполлоном. По некоторым вариантам, Пифон победил Аполлона, и в Дельфах находилась могила Аполлона. С. Кондыбай подробно анализирует этот миф в сравнении с казахским фольклором, рассматривая Пифона как «убиенное божество» (М.Элиаде). Мы же хотим отметить параллель казахского и эллинского мифа, подтверждающую догадку С. Кондыбая: Коркут погибает из-за сестры (змеи?), Аполлон погибает в борьбе с Пифоном (или побеждает его, но во искупление вины девять лет проводит под землей, что по сути есть смерть).
Пифон также именовался Дельфом, Дельфином, а дельфина эллины называли «морской свиньей», что отсылает нас к параллели Койбас-ана и девушки с головой свиньи в кельтской мифологии.
Аполлон от Пифона наследует мудрость и прорицательство, но и Коркут не просто умирает от укуса змеи. Даже поздний исламизированный казахский фольклор относительно смерти Коркута выражается странно, почти в «буддийской логике» («…Этот мир конечен… этот мир бесконечен… этот мир и конечен, и бесконечен… этот мир ни конечен, ни бесконечен…»): «Қорқыт тірі десем, тірі де емес, өлі десем, өлі де емес» – «Коркут, которого я посчитал было живым, не является живым, посчитал было мертвым, но он не является и мертвым». Речь идет о выходе за границы мира двойственностей, преодолении дуальности, возвращении к Изначальному Единству, где Орел и Змея – это одно и тоже. В легенде о Нуртоле спустившийся с неба по солнечному лучу мальчик-музыкант магией музыки уводит за собой и удерживает на дне моря змей, он продолжает играть и сейчас.
Архетип младшей сестры
Само слово «қарындас» – «единоутробный» у казахов означает «младшая сестра по отношению к старшему брату» (младшая сестра по отношению к старшей называется «сіңлі»), а во многих других тюркских языках, например в турецком, оно означает кровного родственника вообще. Это понятие отражает мотив рождения (возникновения) дуализма, дуальных противоположностей из единства. Казахи, придав слову «қарындас» значение «младшая сестра», довели этот мотив до логического завершения. Дуальные «единоутробные» начала – старший брат и младшая сестра – в казахском языке противопоставляются по возрасту (старший-младший) и по половой принадлежности (мужчина – женщина).
Мотив «қарындас» постоянно, если не сказать, навязчиво присутствует в казахском фольклоре. Все классические эпосы начинаются одинаково: бездетные старики отправляются в паломничество, чтобы вымолить у высших сил сына. В конце концов сын рождается, и вслед за ним почти всегда рождается девочка, младшая сестра батыра, жизненная миссия которой быть «тілеуші, тілеуқор» («қыз – тілеуші») – желать добра брату (и всей семье), молиться за него.
Обычно сестру батыра в эпосе зовут Қарлығаш – Ласточка. Мифологический образ ласточки у казахов практически утерян, сохранилось лишь представление о святости ласточки, да сказка «Почему у ласточки хвост рожками?» о том, как ласточка спасла человечество от дракона-кровопийцы. Противостояние ласточки (младшей сестры) дракону не должно нас смущать, потому что первоначальный миф, демифологизируясь, превращаясь в фольклор, забывается, трансформируется (часто по принципу «то ли он украл, то ли у него украли»).
В этнографии казахов незамужняя девушка очень близка с женой старшего брата «жеңге». Та является ее ближайшей подругой и советчицей. устраивает ее свиданья (но и отвечает за ее чистоту перед родом мужа). Однако в сказках на рудиментарном уровне сохраняется мотив соперничества жены и младшей сестры героя. Например, в сказке «Царь и Орел» герой женится на дочери Орла (!) волшебнице Гайнижамал и возвращается домой с ней. Он оставляет жену неподалеку от аула, чтобы предварительно известить родных о своей женитьбе. Гайнижамал просит мужа не целовать младшую сестру (в отношении других родственников такое условие не ставится), но он, разумеется, нарушает этот запрет. Забыв после поцелуя с сестрой о Гайнижамал, он празднует свадьбу с другой. оставшейся в сказке неназванной невестой.
Гайнижамал – дочь Орла, т.е. Орлица, поэтому вполне вероятно, что ее соперница была Змеей. Вероятно, русская поговорка «золовка – змеиная головка» является рудиментом древнего мифа. В мифологии одного из малых народов Сибири – селькупов – мир трехслоен. Высший мир олицетворяет орлица, средний – медведь, а нижний – змея. Медведь является супругом и орлицы, и змеи, что напоминает структуру казахских эпосов, в которых батыр родом из среднего мира берет двух жен – из верхнего и нижнего миров, в более современной терминологии – из пери-мусульман и пери-немусульман (такова формулировка, например, в эпосе «Аншыбай» из цикла «Сорок крымских батыров»).
Как известно, священные браки между братом и сестрой были приняты в династиях египетских фараонов и у некоторых других народов древности. В историческое время в тюркской культуре кровнородственных браков не существовало, но быть может идея такой иерогамии в глубокой древности все же присутствовала в культуре наших предков. Или же все-таки следует говорить об идее дуальных начал, оформленной в мифе.
В большинстве традиций жена – это «внутренняя женщина», а мать – это «внешняя женщина», и эта идея достаточно сильно артикулируется в казахском фольклоре. В эпосе «Козы-Корпеш – Баян-сулу» безымянная старуха-пряха (судьба), устав от неконтролируемой силы мальчика Козы, сообщает ему о существовании его суженой, просватанной за него еще до его рождения Баян. Мать Козы, изо всех сил пытавшаяся скрыть этот факт, затем прямо препятствует сыну в его поисках невесты. Т. Асемкулов в уже упоминавшейся статье «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначального смысла» трактует этот эпизод как сопротивление инфантилизма взрослению, реализации человека.
В христианстве, вопреки распространенной логике, Богоматерь является «внутренней женщиной» для своего сына Христа. Возможно, на древнейшем этапе развития тюркской культуры младшая сестра была «внутренней женщиной» («тілеуші», но не женой) мужчины, подобно тому как «нағашы» – дядя по линии матери – во многих культурах (в том числе рудиментарно и в казахской) ближе племяннику, чем его отец. У казахов даже есть поговорка «Жаман әкеден жақсы жезде артық» («Чем плохой отец, лучше хороший муж старшей сестры»). Все это отголоски давней борьбы матрилокального и патрилокального брака, матрилинейного и патрилинейного родства.
Существует еще одна поздняя легенда, согласно которой Коркут завещал похоронить его так, чтобы из могилы выглядывал большой палец его ноги. Якобы это наказание за то, что этим пальцем он нечаянно задел во время бури младшую сестру.
У казахов существует множество табу на различные жесты и движения, поэтому эта легенда может иметь прямой смысл. Однако следует помнить, что большой палец ноги имеет и фаллический символизм. В некоторых казахских сказках с мотивом «ложного близнеца», реконструированных С. Кондыбаем, герой просит отрубить его мизинец за то, что нечаянно задел им жену старшего брата-близнеца, и умирает от кровопотери.
Музыкальная иерогамия
Большой палец ноги (или пятка), игра им на музыкальном инструменте упоминается в легендах о жизни практически всех прославленных композиторов и поэтов вплоть до середины ХХ века в эпизоде состязания в искусстве с девушкой или женщиной. У казахов всегда были популярны состязания между музыкантами-инстументалистами (тартыс) и музыкантами-поэтами (айтыс), ведущие свое начало с борьбы дуальных фратрий первобытного рода. Существует множество видов таких айтысов и тартысов, каждый из которых характеризуется особыми правилами. Один из наиболее распространенных – состязание в искусстве девушки и парня, представляющих разные роды. Девушка и парень могли состязаться в острословии и поэтической импровизации, в знании наибольшего количества инструментальных пьес (кюй) и уровне их исполнения, в импровизации таких пьес и т.д.
Весьма характерно то, что во всех упомянутых выше легендах великие музыканты уступают в искусстве соперницам и выигрывают состязание только за счет какого-нибудь не очень честного приема. Например, мужчина-музыкант снимает обувь и начинает играть пальцем ноги или пяткой. Девушка не может публично обнажить ногу и вынуждена признать поражение. Или мужчина-поэт, заранее собрав информацию о семейной ситуации соперницы, в критическую для себя минуту обращается к ней с предложением продемонстрировать публике мужа, который «наверняка достоин такой выдающейся женщины» (айтыс Биржан-сала и Сары. Кстати, поражение в этом айтысе позволило затем Саре потребовать и получить развод на суде биев). Очень часто, такие легенды говорят о ранней смерти этих девушек, и несколько выдающихся произведений казахского искусства (например, «Сылкылдак» – «Смеющаяся звонко» Таттимбета в Х1Х веке и «Назконыр» Сугура в ХХ веке) посвящены памяти прекрасных соперниц.
Понятно, что далеко не все выдающиеся музыканты прошлого встречались в состязании с современницами, превосходящими их в искусстве. Объяснение поражения тем, что девушка не могла обнажить ногу и сыграть пяткой или большим пальцем ноги – позднее, исламское. В конце концов, вряд ли мужчина-соперник исполнил ногой кюй на высоком техническом уровне, девушка вполне могла бы повторить такую игру ногой в мягком кожаном сапожке. Не исключено, что играя ногой, мужчина производил сексуальные движения, как в архаических кюях «Балбрауын», которые девушка уже точно не могла воспроизвести. Вероятно, эти легенды развивают идею, суть которой можно выразить так: «Женщина может быть талантливее, но мужчина в патриархальном обществе обязан первенствовать».
Но есть и более глубинное объяснение мифологического архетипа, лежащего в основе подобных легенд. Девушка-соперница в музыкальном состязании (кстати, согласно этикету, музыкант называл такую соперницу не иначе, как «қарындас») – это экстериоризированная, проецированная вовне «внутренняя женщина», «небесная супруга» традиционного музыканта. Повторяя в точности имеющие священный статус кюи (основное значение слова «күй» – «состояние») из репертуара соперника, музыканты – мужчина и женщина – «усваивают» музыкальную личность друг друга, создают и утверждают свою тождественность, как бы осуществляя музыкальную иерогамию, музыкальный андрогинный союз (по рассказу кюйши Сугуровской школы Жангали Жузбаева, Сугур женился на своей сопернице Мафрузе. Зная, как тяжел его взгляд, он все-таки не мог удержаться и часто любовался ею, так что через год после свадьбы она умерла от сглаза. «Назконыр» – это запечатленное в музыке горе музыканта). След ноги, ступни, так же как и след пятерни – это символ Бога, а в патриархальном обществе Бог, находящийся вне двойственности, все-таки воспринимается как мужское начало, и двуполый андрогин – все еще «мужчина».
Большой палец, торчащий из могилы, напоминает священные лингамы Шивы в индуизме, точнее их каменные изваяния, во множестве встречающиеся в Индии. Достигших просветления йогов одной из сект после смерти «… не кремируют, а хоронят в позе медитации… На могилах устанавливают символы лингама и йони… Таким образом провозглашалось, что саньясин отождествился с Шивой и его знак (лингам) освящает могилу, которая со временем может стать святилищем… Могила становится святым местом потому, что в ней находится не труп, а тело «освобожденного», находящегося в состоянии перманентной медитации» (Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. Киев, 2000. С. 281). Святой Коркут в могиле, кстати, ведь тоже «и не живой, и не мертвый».
Шива – бог-творец и бог-разрушитель, бог-аскет, постоянно пребывающий в медитации. «…Освобождение достигается объединением Шакти и Шивы. В тантризме Шива – чистое сознание – является пассивным. Его «бездейственность аналогична состоянию бога отдыхающего… Мы упоминали миф о рождении Шакти, когда боги во главе с Высшим существом одновременно напрягли все свои силы, чтобы создать эту Богиню, и после этого именно она была дарителем силы и жизни. Тантрист старается повторить этот процесс, но в обратном направлении. Ему нужно «активировать» чистый дух – Шиву – ставший бездействующим и пассивным и объединить его с его собственной Шакти…» ( Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. С. 172).
Мифологически тантрический процесс можно представить так: Шакти – энергия – это свернувшаяся в клубок змея Кундалини у основания позвоночника, т.е. в корнях Мирового древа. Пробуждаясь, она поднимается по позвоночнику, чтобы ужалить, активировать Шиву-сознание, того, кто находится в голове – в гнезде на вершине Мирового древа, – и воссоединиться с ним.
Этот же символизм воспроизводится в мифе о первочеловеке Пуруше, из тела которого создается Вселенная, и женщине Пракрити, олицетворяющей материю и энергию. Индийская философия сложна и многослойна. Пуруша представляется «тысяченогим, тысячеруким и тысячеглазым», и в то же время он «быстр и цепок без рук и ног, он видит без глаз, слышит без ушей, он знает то, что должно знать, но его никто не знает». Соединение Пуруши и Пракрити уподобляют безногому, сидящему на плечах у слепого (слепой). Все эти метафоры призваны иллюстрировать мысль о пассивности духа, чистого сознания, субъекта, мужского – в метафизическом смысле – начала и активности материи-энергии, женского начала.
Казахскому мировоззрению, казалось бы, чужды подобные метафизические построения (хотя пассивность мужчин, и ответственность за семью, которую взвалили на себя женщины в постперестроечный критический период, прямо иллюстрируют эту метафизикуJ). Однако в знаменитом древнетюркском мифе об Ашине первопредок небесных тюрков изображается в виде мальчика, брошенного с отрубленными конечностями в болото, его спасает, выкармливает и рожает от него сыновей волчица – один из тюркских образов «внутренней женщины», «женщины тонкого мира». Возможно, казахские сказки о совместно живущих калеках, которые выделил С. Кондыбай, следует толковать в этом же духе.
Даже в семитских религиях свернувшаяся в кольцо змея символизирует шекину – присутствие Божье. Шекина (др.-евр. šechina — «кров, обитель», ср. каз. «сақина» – кольцо) в Каббале – это женская ипостась невидимого Бога, Божественная энергия, с которой Он соединяется в высшем из миров. В эпосе, как уже говорилось, батыр призывает дракона Урана, который (или которая) прилетает на зов и обвивается кольцом вокруг пояса батыра, так что дух батыра поднимается и вспенивается, а враги в ужасе бегут прочь.
Итак, «тантрист пытается «реактивировать» Высшее Существо, объединяя его с «силами», которые заняли его место» (М. Элиаде). Несколько схожий процесс, но на уровне бессознательного, видит К. Г. Юнг в снах, когда человек приходит к воде в поисках чего-то неизведанного. «Когда наше естественное наследие улетучилось, то, говоря вместе с Гераклитом, дух тоже спустился со своей огненной вершины. Когда же дух слабеет, то он становится водой. Путь души, которая ищет потерянного отца…ведет поэтому к воде, к тому темному отражению, которое покоится в ее глубине…Сновидец опускается в свою собственную глубину, и дорога ведет его к воде, полной тайн…сходит ангел и касается воды, приобретающей, таким образом, целебную силу. В сновидении это ветер, «дух, который дышит, где хочет». Чтобы вызвать чудо оживления воды, требуется нисхождение человека к воде…Вода – это «дух долины»; водный дракон Тао, чья природа подобна воде; Янь, вмещенный в Инь. Поэтому, с точки зрения психологии, вода означает: дух, который стал бессознательным» (Юнг К.Г. Божественный ребенок. М., 1997. С. 262).
Сходство и различие этого символизма с символизмом легенды о Нуртоле, где огненный дух оказывается заключенным в воду, мы уже рассматривали в статье «Судьба тенгрианства и легенда о Нуртоле». «Подобно юнговскому сновидцу, казахские шаманы и музыканты спускались к воде, играли у воды, ночевали на перекрестке дорог и т. д. Если сравнить этот обычай с обычным строгим запретом ночевать в безлюдном месте, а также то, ради чего музыканты шли на нарушение запрета, – снисхождение духа и обретение дара, иногда оборачивавшиеся безумием, одержимостью духами, приходится признать достаточно большое сходство между ситуацией этих неофитов и юнговского сновидца. В терминах Юнга они спускаются к воде, в бессознательное затем, чтобы снять преграды между сознанием и бессознательным (или сверхсознательным), пробудить архетипы, испытать непосредственный личный опыт встречи с ними, опыт встречи с одновременно грозным и прекрасным, гневным и милостивым, устрашающим и воодушевляющим, амбивалентным нуминозным…
Казахские легенды об обретении шаманского или музыкального дара вплоть до ХХ века содержат мотивы временного помрачения сознания, когда неофит в бессознательном состоянии бродит по безлюдным местам или лежит в горячечном бреду. Нередки упоминания и о случаях, когда заканчивается это испытанием не победой над духами, их усмирением, а поражением, одержимостью духами. Для шамана вся его жизнь – постоянная борьба с пробужденными духами, итог которой неизвестен». Художественное описание этой пожизненной борьбы представлено в романе М. Магауина о традиционной музыке «Кокбалак».
Можно трактовать подобные легенды и в том смысле, что шаман (музыкант) пытается покорить себе тонкие женские энергии, управлять ими. В легендах о встрече охотника (странника) с пери (Уркер) у охотника есть несколько способов справиться с пери, взять власть над ними, не дав им погубить себя. В легендах о музыкантах лишь сила духа и музыкальный талант позволяют не погибнуть или не впасть в безумие под ударом пробужденных духов (энергий).
Опыт нуминозного в казахской музыке
Обычно, как показывает К. Юнг, человек защищен от непосредственной встречи с прекрасным и ужасающим нуминозным традиционными ритуалами и символами, выполняющими роль своего рода защитного фильтра для сознания. Эти символы «созданы из стихии откровения и каждый раз воспроизводят первоопыт божества. Поэтому каждый раз они действительно раскрывают человеку предчувствие божественного и одновременно охраняют его от подобного непосредственного опыта» (Юнг К.Г. Божественный ребенок. С. 254).
Одна из легенд о снисхождении музыкального дара на Биржан-сала – великого композитора и певца 19 века – рассказывает, что до средних лет он не держал в руках домбры, что удивительно для казахского общества того времени. Однажды ночью его родичи в ужасе проснулись от жуткого рева, диких криков Биржана. Напуганные, они бросились из аула прочь и отправили гонца за муллой-экзорцистом. Когда родственники во главе с прибывшим муллой возвращались в аул, за 10 верст они услышали ранее никому не известную прекрасную песню. Мулла, прислушавшись к пению, сказал «Это не ко мне, можете обратиться к шаману» и отправился восвояси.
По словам Таласбека Асемкулова, в творчестве Биржан-сала «поет руда», необработанная, природная. В нем выражен необузданный, дикий темперамент самого певца. Каждая песня – это поединок, сражение, требующее от певца не только незаурядных технических данных, но и сильного темперамента, мощи. В отличие от буколических фольклорных песен с небольшой местной кульминацией, у Биржан-сала кульминация – это апофеоз жизни как горения. Иногда песня начинается именно с кульминации и потом резко уходит вниз. При таком огромном перепаде высотности Биржану удается сохранить красоту песни, ее соответствие канонам, точнее. Он сам создает свой собственный канон.
Уникальность творчества Биржан-сала особенно выпукло выглядит при сравнении с творчеством его современника Ахана-сери. Ахан-сери получил с детства сильное религиозное воспитание, и его творчество имеет рафинированный, утонченный характер. Ему свойственен эстетизм, отрефлектированность каждого нюанса, в его песнях выражена красота печали как катарсис. Расцвет песенного искусства в 19 веке Т. Асемкулов объясняет тем, что в колониальных условиях в него сублимировался воинский дух казахов. Биржан-сал и Ахан-сери – это две грани аркинской песенной традиции. У Ахан-сери изображен успокоившийся, смирившийся, осознавший тщету борьбы воинский дух, а в творчестве Биржана война продолжается, она в самом разгаре.
В терминах Ф. Ницше, творчество Ахана-сери – холодноватый, отстраненный аполлонизм, а в песнях Биржана беснуется Дионис, которому открыта бездна небытия и который готов в исступленном восторге жизни броситься в нее, чтобы обрести Единство. Такая жизнь, озаренная явлением нуминозного, просто не могла завершиться заурядно. Биржан, продолжавший в свои 60 лет вести богемный образ жизни, стал вызовом социальным условностям уходившего от Традиции казахского общества, был признан умалишенным, связан своими родичами и умер от гангрены, начавшейся из-за натертых веревками язв.
«Судьбой тебе предназначено бесконечное страдание» («Маңдайыңның соры бес елі екен») – такова обычная формулировка будущей судьбы музыканта. И может ли быть иначе, ведь традиционный музыкант – это тонкочувствующий человек, который глядя в бездну небытия, осознавая ничтожность и отделенность человека от Первоначала, должен оформить свое знание в жизнеутверждающей мужественной музыке, воспеть Смерть в мажорном ключе.
Есть множество более или менее убедительных этимологий имени Коркута. Народная же этимология от «қорқыту» – «напугать», рассказывающая о сопутствовавших рождению музыканта страшной буре и солнечном затмении, давно уже отвергнута наукой. Но зная легенду о снисхождении музыкального дара на Биржан-сала и, самое главное, обращаясь к кюям Коркута, следует признать: в этой народной этимологии есть зерно истины.
«Кюи Коркута – это жизнь, ищущая свое Абсолютное начало, свой Бессмертный исток, и раз за разом срывающаяся в бездонную пропасть ужаса, смерти, боли и безнадежности. Кобыз прорывается в другие миры, но там опять сталкивается с ужасом бессмысленного конца. В душе человека есть 28 дверей, но лишь одна из них ведет к Богу, говорили старики (Т.Асемкулов). “Ищущий Источника Жизни проходит во Мраке через все виды ужаса и печали» (Сохраварди. Багряный ангел // Конец Света (эсхатология и традиция). М., 1997. С.78). О буре и о пути во мраке рассказывают кюи Коркута, об этом шепчет Смерть, севшая на плечо музыканта, об этом поет и сам Коркут-ата в “Книге моего деда Коркута: “Где похваляющиеся беки, считавшие весь мир своим! Смерть взяла, земля проглотила! Кому остался этот мир! Этот мир приходит и уходит, этот мир всегда заканчивается смертью!” Слушать кобыз по-настоящему, это значит быть втянутым в особую реальность, обнаженным сердцем пережить страх смерти, ужас покинутости в мире страдания и тоску, безумную тоску по Вечному, Абсолюту. И если хватит сил пережить, пропустить через сердце этот океан страдания, то музыка боли в конце концов обернется утешением, светлой печалью, печалью-радостью. Потому что для познавшего печаль всегда светла, а радость всегда немного печальна. “Мудрость подобна слезам, проступающим сквозь веки” (Сохраварди). Коркут-Логос говорит миру о его Божественном вечном начале, скрывающемся за покровом вселенского ужаса, о бессмертии, которое ждет того, кто мужественно шагнет в смерть» (Наурзбаева З. Коркут в тенгрианстве // http://www.otuken.kz/index.php/mythzira/48-korkut).
Коркут как кобызист и Коркут как эпик соединяет в себе дионисическое и аполлоническое начала. Его музыка не просто «… связана с исконным противоречием и исконной скорбью в сердце Первоединого», но и преодолевает это противоречие (Ницше Ф. Т. 1. С. 78)
В жажде личного опыта встречи с нуминозным «главная опасность состоит в подверженности ослепляющему влиянию архетипов… При определенном психологическом предрасположении и при определенных условиях архетипические фигуры, и без того сильные своей естественной нуминозностью, могут приобрести известную автономность, целиком освободиться от контроля сознания и достигнуть полной независимости, т. е. вызвать феномен одержимости…Патологический элемент состоит не в факте существования этих представлений (о потере души в результате одержимости – З. Н.), а в диссоциации сознания, которое более не способно управлять бессознательным» (Юнг К.Г. Божественный ребенок. С. 254). В сущности К.Г. Юнг здесь как психолог интерпретирует мысль, высказанную Ф. Ницше в исследовании «Рождение трагедии из духа музыки»: аполлонические образы призваны защитить сознание от открывающейся ему дионисической бездны небытия.
Казахский традиционный музыкант, вызывая духов, рискует потерять себя в надежде обрести высший дар искусства, ибо возвышенное есть «художественное преодоление ужасного» (Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М, 1990. С. 83). Или как сказал немецкий поэт Р.-М. Рильке: «Прекрасное – это та часть ужасного, которую мы можем вместить». Поистине, высший героизм необходим музыканту-воину, чтобы исполнить такую судьбу.
2012
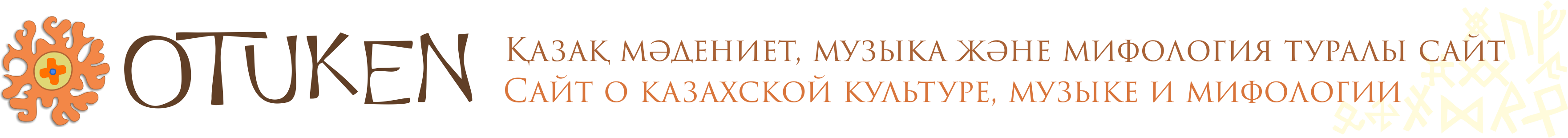
Материал удивительный по глубине. Даже если не всё в нём соответствует правде, он замечателен своей глубиной, наводящей на поиски и размышления. Спасибо!