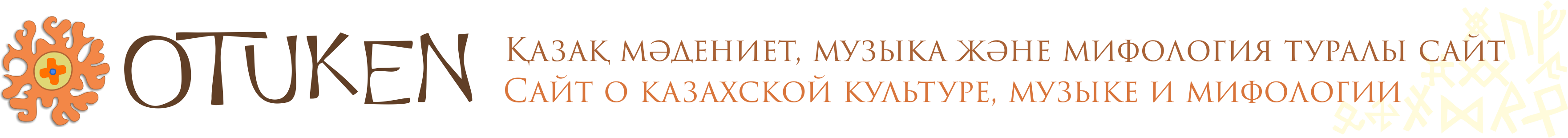Зира Наурзбаева
 Введение. В романе писателя и традиционного музыканта-кюйши Таласбека Асемкулова (1955−2014) «Талтүс» («Полдень»), завершенном в 2003 году, описывается детство и юность автора. Сразу после рождения он был усыновлен дедом по матери, кюйши Жунусбаем Стамбаевым (1891−1973, Айгыз, ВКО) с целью передать внуку музыкальное наследие, сохранить древнюю инструментальную традицию. В центре романа – музыка и музыканты, но у казахов исполнение короткой инструментальной пьесы «күй» обязательно предварялось рассказом об истории произведения, кроме того, мальчик слушает рассказы аульных стариков-музыкантов о трагических событиях казахской истории ХХ века, участниками которых они были. Герой романа Аджигерей живет как бы в двух мирах – советский казахский аул 1960-х годов и казахская устная история от древности до современности.
Введение. В романе писателя и традиционного музыканта-кюйши Таласбека Асемкулова (1955−2014) «Талтүс» («Полдень»), завершенном в 2003 году, описывается детство и юность автора. Сразу после рождения он был усыновлен дедом по матери, кюйши Жунусбаем Стамбаевым (1891−1973, Айгыз, ВКО) с целью передать внуку музыкальное наследие, сохранить древнюю инструментальную традицию. В центре романа – музыка и музыканты, но у казахов исполнение короткой инструментальной пьесы «күй» обязательно предварялось рассказом об истории произведения, кроме того, мальчик слушает рассказы аульных стариков-музыкантов о трагических событиях казахской истории ХХ века, участниками которых они были. Герой романа Аджигерей живет как бы в двух мирах – советский казахский аул 1960-х годов и казахская устная история от древности до современности.
Цель статьи показать, как, по мнению писателя, исторические травмы первой половины ХХ века повлияли на казахов, какие способы работы с этими травмами он предлагает и сравнить их с традиционными казахскими методами проживания горя.
Содержание. Роман Т. Асемкулова «Полдень» посвящен оказавшейся в сталинское время почти на грани угасания инструментальной традиции Сары-Арки и Восточного Казахстана, описывает историю кюев, их эмоциональное содержание и технику исполнения, традиционные музыкальные термины. Но англоязычные читатели романа (Asemkulov) в первую очередь обращают внимание на тему насилия в романе.
Действительно, в романе много насилия: старики рассказывают легенды о давних войнах и набегах, вспоминают, как лютовали белые и красные во время гражданской войны, о конфискациях и переселениях, о голодоморе и репрессиях, более молодое поколение пережило в детстве голод, а затем воевало с финнами, немцами и японцами. Все эти рассказы впитывает в себя главный герой – Аджигерей, поздний сын кюйши Сабыта. Насилие в романе присутствует не только в виде воспоминаний. Кульбагила –мать Аджигерея − ненавидит сына, избивает и унижает его. Аджигерей случайно услышал слова отца матери, что она никогда не рожала, догадался, что она приемная мать, его детское сердце жаждет материнской любви, но кто его настоящая мать – он не знает. Сабыт, узнав об издевательствах жены над сыном, жестоко избивает ее и прогоняет из дому. Позже он узнает, что зять Баймухан избивает его дочь Калиму, в результате тот попадает в больницу. Вот сцена, когда председатель аулсовета Тлеубек пришел к Сабыту поговорить по поводу произошедшего:
– Старик, ты понимаешь, что наделал?… Ты избил Баймухана. В больнице Аягоза он харкается кровью…
− Если избил, значит, есть причина, − Сабыт расправил грудь и приподнял плечи.
− В Сибирь загремишь, − Тлеубек тоже начал ожесточаться.
Сабыт, горько усмехнувшись, покачал головой.
− Я в жизни многое повидал, видел и края, где собак в сани запрягают и где тьма полгода тянется. Повидаю еще раз… Когда я был молодым, аулсоветы отбирали наш скот, арестовывали жен и детей, а наших отцов и братьев расстреливали. Нынешний аулсовет всего лишь в Сибирь ссылает. Значит, время исправляется. Этот аулсовет нам богом дан…
Тут неожиданно в атаку пошла Кульбагила.
− Он не боится ни бога, ни людей, ни закона. Избил зятя… Знай, лелеет свою давно ушедшую в другую семью дочь. Вот я же не умерла, когда в прошлом году он накинул мне на шею чембур и волок за конем. Сижу, чай разливаю.
Сабыт, глядя на жену, улыбнулся со значением.
− Тот чембур все еще при мне… Если хочешь…» (Асемкулов: 49).
Сабыту грозит тюрьма, выясняется, что он уже отбыл в лагерях 23 года и не боится тюрьмы. Он по природе добрый человек, но считает себя вправе действовать силой: «Я свою дочь защищал не как отец. Я защищал ее как человек. Если кто-то в степи бьет скотину, ты ведь подойдешь и спросишь? Интересно у вас получается. В давние байские времена, которые вы, коммунисты, хулите, был спрос за вышедшую замуж дочь. Предлагаешь вот этих беззащитных ягнят оставить рыдать?… А если оставляют плачущего ребенка без защиты – и бога такого, и такой закон, и такую власть я…» (Асемкулов: 51-52).
Сабыт вспоминает, как во время гражданской войны убил дутовского казака, которому приказали казнить его, и как убил в лагере десятника-уголовника. Перед смертью он раскрывает Аджигерею тайну его рождения, рассказывает о том, как на его глазах была убита чекистами первая, любимая жена, просит быть мягче с приемной матерью Кульбагилой: «Она тоже… она тоже горемыка… Жеребенок мой, прошу, научись прощать… Я встретил Кульбагилу незадолго до того, как погибла Зейнеп… Тогда… она была маленькой, с ноготок, десятилетней девочкой… В то время смерть человека была привычным делом. Чему тут удивляться, когда вся степь смердела кровью. Однажды я проезжал через рощу и увидел спящую исхудавшую, оборванную девочку. Пожалел ее, побоялся, что она станет добычей зверей, решил забрать с собой. Разбудил, а она с визгом и плачем бросилась прочь. Кое-как поймал, успокоил ее, расспросил, оказалось, что она дочь бия Турлыбека. Их аул разгромили красные и всех, от мала до велика, вырезали. Бог ведает, как спаслась Кульбагила. Позднее я заехал в аул бия, посмотрел. Я уже привык ко всему, каких только ужасов не навидался. Но когда увидел этот аул, во мне все перевернулось, перед глазами потемнело. А ребенок, который видел… в каком состоянии он мог быть? Позже, когда я вышел из заключения и вернулся на родину… увидел ее во второй раз…» (Асемкулов: 232-233). Жестокость к усыновленному ребенку, атрофию материнского начала у Кульбагилы Сабыт объясняет страшной травмой, полученной ею в детстве.
Вспыльчивость и склонность к насилию Баймухана один из сородичей объясняет тем, что «на войне у него испортилась кровь». Сабыт против такого объяснения: «Он в своем уме, так при чем тут его испорченная кровь? Ест как здоровый человек, а ведет себя как сумасшедший. Все мужчины старшего и среднего возраста этого аула побывали на войне, прошли ее по колено в крови. Я сам двадцать три года был в заключении. Столько пережито, но мы ведь никого не заставляем плакать. Что, если сходил на войну, так людей убивать?» (Асемкулов: 53).
В романе есть образ певца Жумакана, который не мог ударить даже дутовского казака, который собирался казнить его. «…русский схватил Жумакана за загривок, пнул под колени, заставив опуститься на землю, и выхватил из ножен саблю. Если бы я опоздал на мгновение, голова Жумакана покатилась бы по земле. Я прыгнул на русского и вцепился в его правую руку… Мы боремся, а Жумакан мой сидит и смотрит. «Эй, Жумакан, помоги», − говорю я, а он сидит, такой жалкий, подавленный, и говорит: «Как это мы человека убьем?»» (Асемкулов: 109). Когда певец состарился, «нет вещи, которой бы он не боялся. Вдруг поезд задавит корову? Внуков, которые учатся в Аягозе, могут избить русские, всей семьей можем угореть и погибнуть из-за топящейся печи, а если подмытый дождем угол дома обвалится, то погибнем под развалинами… В-общем, он всех измучил своими страхами». Однако Сабыт так завершает рассказ о старшем друге: «Творец создал его особенным. Мы смеемся над его пугливостью, трусостью. Но, по правде, он не был трусом. Он был мужественным. Его героизм был в его беспримерной щедрости, великодушии и человечности. Щедрость и человечность – это признак мужества… А если не смог глотнуть человеческой крови, то, наверное, от его особой природы» (Асемкулов: 118).
Тонко чувствующий Аджигерей не переносит жестоких сцен: «Больше всего на свете он боялся ссор между взрослыми. Сердце, казалось, билось у него во рту, живот скрутило от страха. Скандал нарастал, послышался звук бьющейся посуды. В следующий миг он закричал в ужасе от увиденного… дальнейшее мальчик видел будто во сне. С пронзительным криком бросился прочь» (Асемкулов: 13). Но жизнь ежедневно испытывает мальчика на способность переносить физическое и психологическое давление, и он привыкает к беспощадным, без каких-либо правил дракам аульных мальчишек: «Закаленный в уличных драках, привыкший к наскокам Аджигерей не стал спорить. Он чуть отступил, быстро расстегнул солдатский ремень с огромной пряжкой и намотал его на кулак. Противник не успел опомниться, а он уже хлестнул пряжкой по коричневой тюбетейке. Пацан взвизгнул, схватился за голову и повернулся к нему. В тот же момент Аджигерей хорошенько пнул его пониже пупка ногой в тупорылом брезентовом ботинке. Мальчишка согнулся, тюбетейка покатилась по земле. Пряжка ремня теперь попала ему рядом с ухом. Этим дело и закончилось» (Асемкулов: 26).
Мальчик научился давать отпор своей матери, но продолжает страдать от столкновений с ней, у него появляются суицидальные настроения: «Когда он вспомнил пережитое сегодня издевательство, кровь застучала в висках, перед глазами почернело, он стал задыхаться. Но странно, сколько бы он ни прислушивался к себе, он не нашел прежнего испуга. Ужас, сводивший его с ума, исчез бесследно. Осталось лишь… отвращение… «Мы двое теперь пройдем по жизни двумя отдельными тенями», – прошептал он. Внезапно пришла мысль о смерти. Он удивился сам себе. Как близки жизнь и смерть. Образ смерти неотделим от предыдущих мыслей. Никаких страданий. Никаких трудностей. Страх… Страх и ужас придумал человек. Вот смерть стоит на расстоянии протянутой руки… В глубине омута красная листва, опавшая с деревьев, горит огнем, сверкает. Достаточно сделать шаг… Он поискал в своем сознании ужас. Ему вспомнился рассказ, услышанный несколько дней назад. Про упавшего в воду человека. Его звали… ладно… имя не нужно… Человек… Теперь он, кажется, понял состояние утонувшего. В жизни бывает мгновенье… В это мгновенье человек не различает жизнь и смерть. Вот и он сам… не может найти в себе никакого страха. Сейчас – все равно, отвернуться и продолжить прежнее существование… или улечься, положив голову на подушку красной листвы на дне реки» (Асемкулов: 68-69).
В романе жизнь казахского аула 1960-х предстает как череда бытового и семейного насилия вследствие травм, полученных взрослыми в ходе войн, репрессий, голодомора. Эти травмы передаются следующему поколению: главный герой переживает их осознанно, его сверстники − бессознательно. Для писателя эта тема не случайна, он поднимал ее многократно и в других своих произведениях. Например, в незаконченном романе «Таттимбет-серэ» о композиторе ХІХ века мать говорит сыну: «Время могущества нашего народа прошло. В этом причина. Мужчины народа, который потерял силу, превращаются в домашних насильников, выплескивают гнев на своих женщин» (Әсемқұлов: 1-334).
У казахов были традиционные способы работы с травмой, которые в основном использовались в течение траура. Один из них – исполнение женщинами-родственницами плача «жоқтау». Жоқтау – это жанр устного народного творчества со своими музыкальными и поэтическими канонами, позволявший выразить горе утраты в зримых образах и в форме, поддерживаемой обществом. Плакальщицы распускали волосы, упирали руки в бедра, царапали лицо – поведение, табуированное в обычное время. Жоқтау исполнялся в первые дни после смерти человека почти непрерывно, постепенно интенсивность снижалась. В последний раз он звучал на годовых поминках. После завершения поминок, авторитетный мужчина снимал траурное знамя, прикрепленное к юрте покойного внутри или снаружи, переламывал древко и сжигал его, с жены покойного снимался черный платок (Алтынсарин: 302).
Женщины из семьи покойного могли оказывать сопротивление, не давая мужчине взять знамя, таким образом демонстрируя неготовность расстаться с трауром. Мифологически развевающееся на ветру знамя – носитель духа, траурное знамя – носитель духа покойного. Сожжение траурного знамени символизировало отпускание духа покойного (даже если в исламский период это не осознавалось) и прекращение траура. После этого акта мужчина заходил в юрту к женщинам, исполняющим жоқтау, благодарил их и объявлял о прекращении траура. Таким образом, он определял границу переживанию горя, границу между прошлым и настоящим, формально разрешая семье жить обычной жизнью, заняться будущим. Были и другие ритуалы, позволявшие в социально приемлемой форме пережить горе, в т.ч. и массовое.
Но в 1920-30-ые годы сколько-нибудь публично выразить горе двух голодоморов, потерь гражданской войны и сталинских репрессий было невозможно. Величайшая трагедия всенародного масштаба, сформировавшая советский Казахстан (Cameron) не только не была осмыслена, но и под давлением власти почти не была выражена ни традиционными, ни новыми способами. Идеология требовала излучать социальный оптимизм, радость от успехов в социалистическом строительстве. Советская власть не только стала причиной масштабной катастрофы, но и запретила вспоминать о ней, обрекла казахов, как и другие народы СССР на невозможность пережить травму и прикоснуться к ней, как-то работать с ней, невозможность убедиться, что трагические события действительно закончились, отделены от нас, и теперь мы можем что-то делать с этим. «В официальной коммеморации советского государства эти темы замалчивались, подвергались забвению» (Процессы…: 83).
Часть этого горя сублимировалось в оплакивание потерь Второй мировой войны, страх войны, часть – любым возможным способом. Т.Асемкулов свою последнюю статью «Ар мен ожданның өрті» («Пожар чести и совести»), опубликованную 1 мая 2014 года, начинает с воспоминания о том, что в 1960-е годы аульные казахи обожали индийский фильмы, всем аулом рыдали над ними, а одна старушка объяснила этот феномен: «Что только не испытали казахи недавно? Горе узнает горе. Большинство из сидящих здесь подавлены страданием» (букв. «шерменде, тесік өкпе» − «дырявое легкое») (Әсемқұлов: 4-384).
Этого было недостаточно, и некоторые ритуалы были проводены на местах как только стало возможно, с запозданием на 60 лет, что составляет по традиционному календарю кочевников полный цикл из пяти мушелей (5х12) или один большой год. Примечателен случай с оплакиванием племянника Абая Кунанбаева Шакарима Кудайбердиулы (1858−1931): Шакарим был убит чекистами в ходе подавления восстания в Чингистау (современная Восточно-Казахстанская область), тело сброшено в колодец, соплеменникам было запрещено подходить к этому колодцу. Сын Шакарима Ахат извлек и перезахоронил тело отца в 1961 году (Шәкәрім: 134), а в 1991 году женщины рода тобыкты оплакали Шакарима публично, исполнили жоқтау так, будто он только что умер.
Т. Асемкулов рассказывал в устной беседе, что у казахов раньше были жрецы-абызы, которые собирали всю печаль-горе людское в себя, а потом становились отшельниками и, живя вдали от людей, играли на кобызе, «распуская собранную печаль» (букв. «шер тарқату») (Наурзбаева, 2013: 70). Образ такого отшельника писатель создал в кинороманах «Царица Томирис» (Әсемқұлов: 3-38) и «Кунанбай» (Әсемқұлов: 2-353).
Кюйши ХІХ века Таттимбет был светским человеком – бием, дипломатом, волостным, золотопромышленником, но и в легенде о создании им цикла из 62 кюев «Қосбасар» присутствует архетип музыканта, собирающего и несущего в себе горе всего народа. Согласно легенде кюя, в аргынском роду каракесек был щедрый человек по имени Кушикбай, который помогал всем нуждающимся. У него умер единственный сын, и он, как Иов, возроптал против бога, решил, что раз Творец несправедлив, то и не стоит и жить. Он попытался покончить самоубийством, но родственники спрятали от него все оружие. И тогда он решил уморить себя голодом. Решено было послать за юным кюйши Татимбетом, чтобы тот утешил горюющего отца. Таттимбет с домброй в руках сел на порог, хотя сидеть на пороге строго запрещено обычаем, и начал играть. Он играл два дня. У Кушикбая слезы текли ручьем, его горе рассеялось, и он встал с постели. Увидев пятнадцатилетнего Таттимбета, он страшно удивился: «Я думал, ты глубокий старец, познавший все на свете, а ты совсем юный джигит. Откуда же в тебе столько горя?», на что Таттимбет ответил: «Ты знаешь лишь свое отцовское горе, а я ношу в себе горе всего народа» (Асемкулов: 59-60).
Юный герой романа «Полдень» так же, как и Таттимбет, несет в себе боль своего народа. Это его миссия, поэтому Сабыт говорит: «Только горемыка способен выдержать искусство. На лбу моего сына написано несчастье в пять пальцев толщиной» (Асемкулов: 246). Аджигерей остро чувствует трагичность бытия, открыт боли, аккумулированной в музыке. В одном из эпизодов он уже подросток, слушает кюй Таттимбета «Косбасар горестного плача» в новой интерпретациии одного из своих учителей: «Аджигерей удивился. Он много раз слышал этот кюй от отца. Видел, как его исполнял Саруар. Это было неизбывное, непоправимое горе. Скорбь прибывала волна за волной. Страдание, мучительно сдавливающее человеческую душу петлей волосяного аркана. Непонятно, когда нахлынуло это отчаяние, и когда оно утихнет. Только прикоснись, и боль выльется огненной лавой из жерла неугасимого вулкана. Он поразился, как изменилась природа кюя в исполненеии Газиза. В звуках домбры… нет горя! Никакого горя. Как небо, на котором нет ни облачка, отбрасывающего тень на землю… Все проходит… Нет ничего, что оставалось бы неизменным… Горе тоже ветшает, страдание угасает… Все угасает, все проходит… Горе – величайший опыт… Страдание – важнейший урок… Но ведь есть жизнь… Да… Жизнь… Да, горя в ней больше, чем радости. Но ведь страдания и испытания провели через горный перевал… В голосе домбры ни тени горя… Но от этой прозрачнейшей чистоты как будто бы сдвинулось какое-то другое страдание, вступило в новое, неизвестное доселе пространство сознания. Если бы нравственная чистота имела язык, она говорила бы вот так. С удивлением и радостью Аджигерей почувствовал, что повзрослел» (Асемкулов: 195).
В другом эпизоде романа главный герой благодаря музыке проходит через очередной катарсис: «Кюй удрученного человека, погружающий душу слушателя в страдание и исцеляющий ее этим страданием» (Асемкулов: 170). Не только музыка, но и реальные истории, которые он слышит от учителей, например, история мальчика Косеге, умершего во время голодомора, заставляет его погрузиться в размышления. Параллельно этим размышлениям подростка, пасущего в степи овец, в природе несколько раз за короткое время меняется погода: то буря и гроза, то ветер несет сцепившиеся и напоминающие фантасмагорические фигуры кусты перекати-поля, то в небе «ворочаются тучи», то падает туман, так что подросток теряет ощущение верха и низа, неба и земли. Наконец нашедшему в темноте дорогу к родному аулу, подростку открывается красота человеческого бытия: «Когда они поднялись на гряду, окаймлявшую широкую долину Айгыза, он застыл, пораженный ранее невиданным зрелищем. Аул еще не уснул. В домах мерцала жизнь, колыхались огни, их отсвет создавал над аулом какое-то лучистое свечение, созвучное ночному небу. За завесой дождя огни сверкают, будто в них пролили масло, и от этого их тепло чувствуется издалека. Даже сгрудившиеся овцы, кажется, любуются ночным аулом. Торытобель, из глаз которого льется голубоватый свет, чуть прядает ушами, неотрывно глядя на огни. «Почему чужое горе царапает мое сердце?» − прошептал он, подгоняя коня. Для человека, который уже в мире ином, все равно, свел он счеты с бренным миром или нет. Возмездия хотят живые… Разве только так… Вдруг почудилось, что открывшаяся ему красота – это воздаяние за горе, пережитое Косеге, безмолвная милость Творца. Да, это так. В Книге сказано: ни одна песчинка, ни одно зерно, ни одна капля не останутся забытыми. Вчерашняя слезинка, вчерашнее страдание вернулись сегодня красотой, сладкой печалью, которая дарит блаженство душе и исцеление духу. Это ли не справедливость? То был самый важный вывод его детства» (Асемкулов: 129). Справедливость, которую невозможно восстановить по отношению к жертвам, торжествует, пусть эфемерно, в сознании подростка.
Дед Т.Асемкулова возложил на внука миссию реабилитации культурной памяти своей музыкальной школы, но вероятно эта миссия была невыполнима без работы с историческим травмами казахов. Для Аджигерея исцеление происходит через познание (истории приемной матери Кульбагилы) и прощение, через катарсическое переживание музыки, через красоту природы, единение с ней, через философские размышления и мистические откровения, через любовь к женщине (история первой любви). И самые агрессивные мальчишки аула примиряются с другими, ночью созерцая красоту родного аула после концерта приехавшей в аул известной певицы: ««Лучше нашего аула нет места на земле, правда же, джигиты? − сказал Каирбек, голос его предательски дрогнул. – Посмотрите. Разве можно расстаться с этим? Когда наступает очередь пасти овец, я за день успеваю соскучиться по аулу. А ведь пастбище совсем близко. Я пасу на склоне вон той гряды. Хожу там и взгляд от аула оторвать не могу. Вижу все, что вы делаете, как возвращаетесь из школы. Когда вечером пригоняю овец в аул, будто двадцать лет его не видел, истосковался». Опять начал накрапывать дождь. А мальчишки всё не могли налюбоваться красотой сонного аула, в котором там и сям под мелким дождиком мерцали огни очагов. Они молча смотрели, вытянув шеи и затаив дыхание, как будто в первый раз увидели родной край» » (Асемкулов: 97).
Т.Асемкулов не только сам работает с травмами, но и вовлекает в работу своих читателей, слушателей, зрителей. Он изучал психологическую литературу, от своих учителей знал казахские традиционные методы работы с горем и суфийские методы, однажды в устной беседе рассказал об ордене плачущих суфиев, о практиках очищения сердце слезами: слезы – полировка для сердца. Например, иранский суфий Сохраварди так говорил о мудрости: «Мудрость подобна слезам, проступающим сквозь веки» (Сохраварди). Он говорил о том, что в романе «Полдень» множество экспериментов, в т.ч. и психологических, которые пока не замечены, не оценены критиками. Часто от знакомых я слышала, что они много плакали, читая роман «Полдень» и другие произведения Т.Асемкулова. Сначала мне казалось, что это следствие влияния личности автора. Но и в социальной сети ФБ встречаются высказывания, например, журналистки Д.Елгезек: «Если бы Таласбек-ага был жив, он еще не раз заставил бы нас плакать». С учетом мнения, высказанного в приведенной выше цитаты из статьи «Пожар чести и совести», приходишь к выводу, что это было осознанная цель автора. При этом он следил, чтобы его произведения не превращались в сентиментальные мелодрамы, и при написании автобиографического романа «Полдень» оставил в стороне многие слишком трагические, тяжелые или трогательные эпизоды детства.
Т. Асемкулов не сразу принял собственную эмоциональность в жизни и в творчестве, долгое время пытался работать холодно и отстраненно, как его учили. Со временем он не только принял ее, но и стал использовать как своеобразный критерий душевной готовности к работе. Например, перед написанием романа о Таттимбете или киносценариев о Биржан-сале, Кунанбае, Томирис, он, уже полностью собрав материал и разработав сюжет, мог месяцами не притрагиваться к перу, заниматься повседневными делами. Пока однажды при мысли о своем герое у него не наворачивались на глаза слезы. Он говорил в таких случаях: «Көңілім босады. Аруақ маған риза. Енді жазуға болады» − «Я растрогался. Значит, аруах доволен мной. Можно садиться за работу».
Тема голодомора, конфискации имущества баев, антисоветских восстаний все еще остается не освоенной в массовом сознании. И возможно дело не только в табуированности темы в советской идеологии и негласном запрете, сохраняющемся до сих пор, не только в болезненности травмы. В традиционном мировосприятии отсутствовали матрицы для переживания бессмысленной массовой смерти по вине властей. Один из редких случаев, когда всенародная трагедия было «проработана» традиционно, – это репрессии конца 1920-х против «адайского хана» Тобанияза Алниязова и его «контрреволюционной группы по спасению адаевцев», жестокое подавление последовавшего за этим адайского восстания и исход-откочевка адаев с Мангыстау. Советская власть рассматривается как внешняя сила. Она победила, но адаи с честью воевали против нее. «Вписавшийся» в советскую систему, воспевавший Сталина акын Саттигул в терме «На арест Тобанияза» пел: «В непрестанной борьбе с врагом ты не позволял заклеймить тамгой адаев. Ты был справедливым ханом. Придумывая отговорки для неверных, ты умом и хитростью уберег немало народа» (Наурзбаева, 2017: 475). В устных рассказах об откочевке делается акцент на героизме воинов, позволившем уйти, пусть с огромными потерями, через пулеметный огонь чекистских заградотрядов.
Само по себе поражение в вооруженном противостоянии с врагом – обычная ситуация для бурной истории наших предков. Отработана и матрица переживания такого события: боль поражения, героизм воинов, погибших на поле боя со славой, благородство и преданность семье мужа женщин, сумевших сохранить потомство и продолжить род, тоска по родине, даже благословение оказавшегося более сильным, победившего врага. И обязательно жизнеутверждающее «орында бар оңалар» − «тот, кто выстоял − выправится». Все эти мотивы, хотя бы частично, нашли отражение в традиционном искусстве адаев, их мировосприятии. В устных рассказах о последующем периоде акцент делается на постепенное возвращение адаев на полуостров, своего рода мирную реконкисту.
В романе «Полдень» есть несколько сцен, смысл которых можно выразить словами «прошлое ушло, память о покойных с нами, но надо смотреть в будущее». Эту границу пережитому, травме определяет самый старший и авторитетный мужчина. В сцене после поминок по Баймухану Сабыт говорит дочери: «Разве можно устоять против божьего промысла, светик мой? Что поделаешь, надо смириться. Твои дети не останутся без поддержки. Разве мы не среди родных живем?» (Асемкулов: 101). После поминок по Сабыту на «көңіл шай» семью приглашает младший друг и сородич Сабыта Шерим, он шутливо говорит дочери покойного: «Ты же не думала, что сможешь привязать к себе отца на всю жизнь? Если я не умру, старик, старуха не умрут, то кто же умрет?» (Асемкулов: 242). Аджигерею старец поручает по обычаю разделать баранью голову и угостить сидящих за дастарханом: «Твой отец умер, ты старший мужчина в семье, настал твой черед» (Асемкулов: 243).
Кроме свежих потерь, в романе вспоминаются и прежние, связанные с репрессиями. Например, Сабыт вспоминает, как встречал вернувшегося из ссылки друга юности, сына своего учителя: «Я ждал Оксикбая, которого помнил. Люди выходят из поезда, выходят… Вдруг ко мне подошел какой-то скрюченный старик. Говорит: «Здравствуй, Сабыт». Бог мой! Это и был Оксикбай. Волосы, усы, борода полностью поседели. Сам маленький, в горсти поместится. Я крепко обнял его. Он не проронил ни слезинки. Похлопал меня по спине: «Ладно, Сабыт, не переживай, мы встретились живыми, чего еще желать?» Отправились в путь. Только когда перевалили через Майтас и начали спускаться вниз с перевала, он попросил остановить телегу, слез с нее, отошел от дороги и упал, обнимая землю. Да… Приехали домой. Он гостил месяц. Обошел всех родственников. Я узнал обо всем, что с ними произошло. Илапи умер там. Суждена была ему могила на чужбине. Сколько еще наших нашли свою смерть там? Как жеребята, пойманные укрюком. Потом Оксикбай уехал к своим родственникам по матери в Карагаш и поселился у них. Он часто навещал нас. По обычаю аменгерства женился на одной из своих овдовевших женге, у них родилось несколько детей. Вот так» (Асемкулов: 124).
После вечера воспоминаний о голодоморе и репрессиях старики выходят во двор и видят, что на берегу реки собралась молодежь. «С берега реки слышались веселый смех, звуки домбры.
– Кажется, вечеринка в самом разгаре, − сказал Сабыт.
– Теперь их время, − сказал Шерим. – Ничего не ценят. Шутки, смех… Знают ли, что под их ногами лежат сияющие глаза Илапи? Знают ли они, что прямо там, на берегу, Бекей выкопала очаг?
Сабыт глубоко вдохнул.
– Это лишнее, Шерим. Если веселье молодежи тщетно, тогда ложью будет и то, что Бекей выкопала очаг. Разве они виноваты, что родились в это время? Слава богу, жизнь не прервалась.
Шерим не стал спорить, полными уважения глазами взглянув на Сабыта. Они стояли вчетвером в непроглядной тьме под благословенным дождем, любуясь праздником юности» (Асемкулов: 125).
Вместе с тем, в романе много боли по поводу утрат ХХ века, в т.ч. утраты традиционного искусства, его преемственности. Столетний кюйши Саруар говорит печально: «Иногда задумываешься: где прежняя благословенная жизнь, где наш доброжелательный народ? Конечно, казахи не исчезли. Говорят, за пятьдесят лет обновляется народ, за сто – мир. Народ наш стал другим. Обрел новое искусство. Рассказывают, что когда-то две женщины боролись за одного ребенка. И обратились со своей тяжбой к бию по имени Ханбала. Бий вытащил из ножен саблю, висевшую на поясе, и сказал: «Если вы не можете поделить ребенка, то я разрублю его посередине и разделю между вами». Тогда одна из женщин остановила бия, сказав: «Где бы ты ни был, будь счастлив, мой жеребенок». Она поцеловала малыша в лоб и пошла прочь. Ханбала присудил ребенка ей. Потому что родная мать не пожелает ребенку плохого. Конечно, я не бий, и не мне судить народ, править им. Но в прежние времена казахи гораздо благосклоннее относились к кюю и песне. Даже правители почитали музыку и музыкантов… Мое время закончилось. Одной ногой стою на земле, другой – в могиле. Сколько мне еще осталось? Но что будет с нашим народом? Сегодняшние правители знать не хотят, что такое домбра, песня, кюй. Один поэт сказал: «Из бедняков теперь наши вельможи». Если таковы правители, то что говорить о народе, который подражает правителям, ставке? Когда-то молодые ездили в дальние края, чтобы найти домбристов, выучить новые кюи. А теперь мы, как ковчег Ноя, оставшийся на вершине горы Казыгурт. Все наши рассказы – выдумка. Никто не верит, когда рассказываешь о прежних обычаях и нравах, о пышности и богатстве, о почтительности и милосердии многочисленного народа, под которым когда-то прогибалась земля. Поверишь ли, я дожил почти до ста лет, но до сих пор никто не пришел ко мне, чтобы учиться у меня. Я умру, не передав свое искусство ученику» (Асемкулов: 181).
Таким образом, устами Саруара озвучивается мысль и невосполнимой культурной травме, полученной казахами. По мысли американского социолога Джеффри Александера «культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их будущую идентичность» (Александер: 88).
Мотив утраченной счастливой жизни, то ли реально прожитой, то ли приснившейся во сне, и сменившейся потерями и страданиями, проходит через весь роман, появляется в зачине и повторяется в финале. Так, все, что главный герой услышал, увидел, прочувствовал, пережил в детстве и юности благодаря своим учителям, и что осталось совершенно неведомым для его поколения, превращается в зыбкий мираж, в мифологическое «время сновидений»: «…он не знает, была ли их встреча в реальности, или то был сон? И даже если сон, то что в этом плохого? Самое главное – этот день был», − утверждает автор (Асемкулов: 12). Юность закончилась, и теперь герою предстоит найти собственный путь. Прежняя, счастливая жизнь уничтожена катаклизмом, возврата к ней нет, но казахи должны идти вперед, сохраняя тепло сокровенных  воспоминаний, как бы говорит автор.
воспоминаний, как бы говорит автор.
Әдебиеттер тізімі / Список литературы
- Асемкулов – Асемкулов Т. Полдень. Старый кюйши. Наурзбаева З. Соперница. Астана, KazHeritage, 2020. 368 с.
- Әсемқұлов − Әсемқұлов Таласбек. Шығармалары, 5 томдық (Асемкулов Таласбек. Сочинения в 5 томах). 1 том. Талтүс. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.
- Александер − Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология. М., «Праксис», 2013. 640 с.
- Алтынсарин − Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1957. 466 с.
- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М., НЛО, 2014. 328 с.
- Наурзбаева, 2013 − Наурзбаева З. Вечное небо казахов. Алматы, Сага, 2013. 704 с.
- Наурзбаева, 2017 – Наурзбаева З. Четыре облака. Алматы, НОФ «Аспандау», 2017. 592 с.
- Процессы… − Процессы коммеморации в современной культуре Казахстана: учебное пособие/ К. Медеуова и др. Нур-Султан, ТОО «Мастер По», 2019. 208 с.
- Рикёр П. Память, история, забвение. – М., Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 689 с.
- Сохраварди Ш. Багряный ангел // «Милый ангел», № 2.
- Шәкәрім. Энциклопедия. Семей, Шәкәрімтану ғылыми-зерттеу орталығы. 2008. 864 б.
- Asemkulov Talasbek: Талтус (Полдень) (A Life at Noon) //The Modern Novel https://www.themodernnovel.org/asia/central-asia/kazakhstan/talasbek-asemkulov/a-life-at-noon/
- Cameron Sarah.The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan. London-Itaka. Cornell University Press, 2018.
Referens
- Asemkulov – Asemkulov T. Polden’. Staryj kyujshi. Naurzbaeva Z. Sopernica. Astana, KazHeritage, 2020. 368 s.
- Аsemqulov – Аsemqulov Talasbek. Shygarmalary, 5 tomdyq (Asemkulov Talasbek. Sochineniya v 5 tomah). Almaty: Qazaq enciklopediyasy, 2016.
- Aleksander − Aleksander Dzh. Smysly social’noj zhizni. Kul’tursociologiya. M., «Praksis», 2013. 640 s.
- Altynsarin − Altynsarin I. Izbrannye proizvedeniya. Alma-Ata, Izd-vo AN KazSSR, 1957. 466 s.
- Assman A. Dlinnaya ten’ proshlogo: Memorial’naya kul’tura i istoricheskaya politika / Per. s nem. B. Hlebnikova. M., NLO, 2014. 328 s.
- Naurzbaeva, 2013 − Naurzbaeva Z. Vechnoe nebo kazahov. Almaty, Saga, 2013. 704 s.
- Naurzbaeva, 2017 – Naurzbaeva Z. CHetyre oblaka. Almaty, NOF «Aspandau», 2017. 592 s.
- Processy… − Processy kommemoracii v sovremennoj kul’ture Kazahstana: uchebnoe posobie/ K. Medeuova i dr. Nur-Sultan, TOO «Master Po», 2019. 208 s.
- Rikyor P. Pamyat’, istoriya, zabvenie. – M., Izd-vo gumanitarnoj literatury, 2004. 689 s.
- Sohravardi SH. Bagryanyj angel // «Milyj angel», № 2.
- Shakarіm. Enciklopediya. Semej, Shakarіmtanu gylymi-zertteu ortalygy. 2008. 864 b.
- Asemkulov Talasbek: Taltus (Polden’) (A Life at Noon) //The Modern Novel https://www.themodernnovel.org/asia/central-asia/kazakhstan/talasbek-asemkulov/a-life-at-noon/
- Cameron Sarah. The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan. London-Itaka. Cornell University Press, 2018.
Traumatic history and its impact on modern Kazakhs in the Talasbek Asemkulov’s novel “A Life at Noon”
Naurzbayeva Zira Zhetibayevna
Ph.D, culturologist, translator of the Kazakh language into Russian, screenwriter, moderator of the site of Kazakh traditional music, mythology and culture Otuken.kz, Astana, Kazakhstan.E-mail: otukenkz@gmail.com
Abstract. The subject of the study is a narration of the historical and cultural traumas of the Kazakh people in the autobiographical novel “A Life at Noon” by the writer and traditional musician Talasbek Asemkulov. “Azhigerei is growing up in Soviet Kazakhstan, learning the ancient art of the kuy from his musician father. But with the music comes knowledge about his country, his family, and the past that is at times difficult to bear» (Slavica Pub, 2019). This is not only the history of past centuries, preserved in the memory of musicians, but also the dramatic history of the Kazakhs of the twentieth century: the 1916 uprising, the civil war, confiscations, famine, the mass exodus of people outside the USSR through the KGB cordons, repressions, camps, war… Ordinary readers first of all pay attention to the atmosphere of violence in which the protagonist of the novel lives. According to the author, this domestic violence is a consequence of a tragic history, unresolved historical traumas. The writer not only describes historical traumas, but deliberately «works» with the cultural memory of the nation, seeks to reproduce intergenerational connections. Thus, this novel is a part of the infrastructure of traumatic memory in Kazakhstan.
Keywords: Kazakh, starvation, repression, Talasbek Asemkulov, Kazakh literature, trauma, traumatic memory.
Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс» романындағы тарихи травмалар мен олардың қазіргі қазақ халқына тигізген әсері
Наурызбаева Зира Жетібайқызы
Философия ғылымдарының кандидаты (Ph.D), культуролог, жазушы, сценарист, қазақ тілінен орыс тіліне аудармашы, қазақ дәстүрлі музыка, мифология және мәдениетіне арналған Otuken.kz сайтының модераторы. Астана, Казақстан. E-mail: otukenkz@gmail.com
Аңдатпа. Бұл зерттеудің тақырыбы – жазушы, күйші Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс» (2003) өмірбаяндық романындағы қазақ халқының ХХ ғасырдағы тарихи және мәдени травмаларын суреттеуі және пайымдауы. Өткен ғасырдағы тарихи катастрофалардың (екі мәрте орын алған ашаршылық, байлардың мүлкін тәркілеу, Сталин репрессиялары, соғыстар, антисоветтік көтерілістерді жаншу) салдарынан қазақ халқымен бірге оның дәстүрлі өнері де қағажу көрген. Және де дәстүрлі өнерпаздар бөтен, совет идеологиясына қарсы келетін феодал идеологияның өкілдері болып танылды, қудаланды. Т.Әсемқұловтың нағашы атасы, кезінде Арқадағы атақты күйші Жүнісбай Стамбаев домбырамды ұстайтын шәкірт тәрбиелеймін деп енді туған жиенін бауырына басты. Содан Т.Әсемқұлов өмірге келген сәттен-ақ дәстүрлі қазақ музыкасын қайта жаңғырту тарабында тәрбиеленді. Оның ескі шеберлерге шәкірттігі жайлы, қазақтардың музыкалық және ұсталық өнері жайлы «Талтүс» атты автобиографиялық романында кең баяндалады. Романның өзегі – мәдени жад, оны ХХ ғасырда жоғалту тақырыбы. Роман қазақ халқының тарихи травмаларын өз бетінше ғана емес, мәдени травма, қазақтың ұлттық тектестігіне жасалған ауыр соққы қырынан қарастырады. Жазушы бұл травмаларды суреттеп, ішкі түйсігінен өткізіп, онымен «жұмыс істейді», «жадылайды», ұрпақаралық сабақтастықты мүмкін болғанша қалыпқа келтіреді. Осылай, бұл әдеби шығарма қазақтың травмалық жадтың инфрақұрылымдық тетігіне айналады.
Кілт сөздер: қазақ, ашаршылық, репрессиялар, Таласбек Әсемқұлов, қазақ әдебиеті, травма, травмалық жад.
Травмы истории и их влияние на современных казахов в романе Таласбека Асемкулова «Полдень»
Наурзбаева Зира Жетибаевна
Кандидат философских наук (Ph.D), культуролог, переводчик с казахского языка на русский, киносценарист, модератор сайта казахской традиционной музыки, мифологии и культуры Otuken.kz, Астана, Казахстан. E-mail: otukenkz@gmail.com
Аннотация. Предметом исследования являются художественное изображение и осмысление исторических и культурных травм казахского народа в автобиографическом романе «Полдень» (2003) писателя и традиционного музыканта Таласбека Асемкулова. В результате исторических катастроф ХХ века (революция, голодоморы, подавление антисоветских восстаний, репрессии, войны) вместе с казахским народом было обескровлено и его традиционное искусство. Более того, музыканты и поэты часто преследовались властью как носители классово чуждой идеологии. Таласбек Асемкулов, будучи потомственным домбристом, всю жизнь стремился возродить традицию шертпе-кюя Восточного и Центрального Казахстана, щедро делясь с молодыми музыкантами техническими и композиционными секретами старых мастеров, в соответствии с потребностями времени экспериментируя над строением домбры, реконструируя и развивая имманентные музыкальные представления казахов в исследованиях и прозе. В центре романа «Полдень» − тема культурной памяти, ее утраты и забвения вследствие катаклизмов ХХ века. Таким образом, роман рассматривает историческую травму не только саму по себе, но и в аспекте культурной травмы, которая нанесла значительный ущерб национальной идентичности казахов. Писатель не только описывает и переживает в романе травму, но и осознанно «работает» с ней, культурной памятью нации, стремится возродить межгенерационные связи. Таким образом, это литературное произведение становится частью инфраструктуры травматической памяти в Казахстане.
Ключевые слова: казахи, голодомор, репрессии, Таласбек Асемкулов, казахская литература, травма, травматическая память.
Статья выполнена в рамках проекта ««Места памяти» в современной культуре Казахстана: процессы коммеморации в публичных пространствах» по линии КН МОН РК на 2018-2020 гг. (руководитель проекта Медеуова К.). Впервые опубликована: Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(4) 2020. С. 1221-1232
Читать роман Талтүс в оригинале, на казахском языке онлайн, приобрести его
Слушать кюи и песни, упомянутые в романе, прочитать истории этих кюев и песен можно в рубриказ «шертпе кюй» и «тылсым перне» в разделе Таласбек Асемкулов
Купить перевод романа Талтүс/Полдень на русский язык