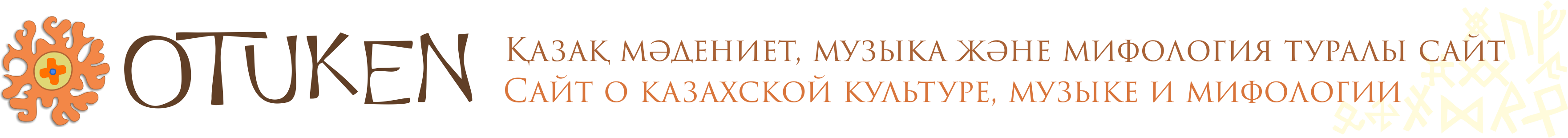ЗИРА НАУРЗБАЕВА
Иногда самые абстрактные культурологические темы оказываются вдруг актуальными.  Казалось бы, что может быть дальше от реальной жизни, чем сравнительный анализ тюркских и семитских мифов о происхождении музыки? Но на Интернет-форуме московских студентов-мусульман пространный фрагмент из моей давнишней статьи «Изначальный ислам – тенгрианство в наследии жырау» цитируется в диспуте на тему – халал или харам музыка некоего чеченского барда. У нас же в Казахстане без всяких теологических дискуссий десятки молодых музыкантов-народников, принявших различные формы ислама, ушли из профессии, а некоторые до сих пор в музыкальных учебных заведениях, вместо того, чтобы учить студентов игре на домбре или пению, проповедуют в студенческой аудитории о сатанинской природе казахской традиционной музыки.
Казалось бы, что может быть дальше от реальной жизни, чем сравнительный анализ тюркских и семитских мифов о происхождении музыки? Но на Интернет-форуме московских студентов-мусульман пространный фрагмент из моей давнишней статьи «Изначальный ислам – тенгрианство в наследии жырау» цитируется в диспуте на тему – халал или харам музыка некоего чеченского барда. У нас же в Казахстане без всяких теологических дискуссий десятки молодых музыкантов-народников, принявших различные формы ислама, ушли из профессии, а некоторые до сих пор в музыкальных учебных заведениях, вместо того, чтобы учить студентов игре на домбре или пению, проповедуют в студенческой аудитории о сатанинской природе казахской традиционной музыки.
Откуда в исламе негативное отношение к музыке? Заявляющие, что музыка является харам, запрещенной для мусульманина, не могут обосновать свое мнение ссылкой на Коран. Чаще приводятся ссылки на хадисы – переданные надежными свидетелями мнения и описания эпизодов жизни пророка Мухаммеда, как говорят, отрицательно относившегося к музыке, связывавшего распространенность музыки с Последними временами. Такие хадисы отражают, в общем-то, личное мнение пророка, а не Божественное Откровение, но входят в сунну и являются обязательными для правоверных. И конечно всегда открытым остается вопрос о подлинности того или иного хадиса. И все-таки приводимые хадисы не объясняют причину и суть отрицания музыки в исламе (еще менее объяснимо отношение к музыке новых течений ислама, отрицающих хадисы).
Конечно, можно говорить о том, что развлекательная музыка является частью светского образа жизни, причем наиболее сильно воздействующей, прельщающей человека и отвлекающей его мысли от Бога. Уже в средние века ученые, обсуждая проблему музыки в исламе, отмечали следующее: «Причина, по которой в некоторых законоположениях пророков (мир да будет над ними!) на музыку наложен запрет, заключается в том, что люди прибегали к ней не с той целью, с какой ее использовали мудрецы, а ради развлечения и забавы, для разжигания страстей, связанных с суетой дольнего мира…» (цит. по: Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. С. 115).
Но ведь речь идет не только о легкой музыке, но и о музыке серьезной, той, которая с древнейших времен высоко оценивалась всеми культурами. Речь идет не о цензуре, а о фундаментальном отказе, запрете музыкального искусства в большинстве богословских и правовых школ ислама. В этом контексте рассуждения ученых и людей искусства о музыке для мудрецов и музыке для толпы выглядят жалкими увертками обреченной стороны в средневековой полемике по вопросу законности «слушания» музыки.
Каинова печать музыки
Поскольку доступные нам тексты мусульманских авторов лишь констатируют запретность музыки, в поисках ответа на вопрос было бы логично обратиться к другим аврамическим религиям – иудаизму и христианству. Тем более, что и в христианстве присутствует отрицание музыки: «Если собрать воедино все соборные постановления, церковные вердикты, папские буллы, высказывания отцов и учителей Церкви,… направленные против музыки, то мог бы получиться, наверное, не один объемистый том, свидетельствующий о некоей изначальной и фундаментальной неприемлемости музыки с точки зрения Церкви» (Мартынов В. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М. 2000. С. 85).
И это при том, что пение (а в католицизме – и органная музыка) являются неотъемлемой частью христианского богослужения. Кстати, в истории иконоборчества внутри христианства такое использование музыки при отправлении культа рассматривалось, наряду с иконами, как один из аспектов идолопоклонства. Возможно, что отрицание музыки исламом связано именно с сильнейшей иконоборческой тенденцией Последнего Откровения? Но, оказывается, корни проблемы находятся еще глубже.
Православный композитор и исследователь В. Мартынов в опоре на тексты Ветхого Завета раскрывает глубинные причины неприятия музыки в аврамических религиях. Грехопадение и «память об утраченном райском состоянии сделалась осознанной или не осознанной притягательной точкой стремления всего человечества. Стремление к идеалу, в той или иной форме присущее каждой цивилизации, каждой культуре, каждому человеку, есть лишь слабый отголосок того потрясения, которое пережил первый человек на собственном опыте. Желание вновь обрести утраченное блаженное состояние… может быть достигнуто двумя противоположными путями. Первый путь заключается в попытке примирения с Богом, покаяния перед Ним… Второй путь заключается в попытке воссоздать это утраченное состояние земными средствами, своими собственными руками, не надеясь на примирение с Богом и не ожидая его» (Мартынов, с. 92-93).
Два этих пути были персонифицированы в двух родственных группах людей – потомков Адама от самого младшего сына Сифа и от братоубийцы Каина. Сифиты заложили начало «молитвенного подвига», «внутреннего навыка обращения к Богу», которое стало истоком земной истории Церкви и богослужебного пения. Каин же «…пошел… от лица Господня» и «…построил… город…», символизирующий начало истории цивилизации, начало мирообустройства без расчета на помощь Божью. Среди земных искусств, изобретенных каинитами, – ремесла и музыка, создание музыкальных инструментов. В таком контексте музыка, в особенности, инструментальная музыка призвана воспеть красоту этого, земного мира, утешить человека в его потере изначального рая, отвлечь его от искания Бога, преклонения Богу. «…Нет религиозно-бессодержательных звуковых структур, ибо за каждой звуковой структурой стоит определенная структура верования» (Мартынов, с. 95).
Итак, музыка становится компонентом языческих культов, поэтому неудивительно отрицательное отношение к ней аврамических религий.
Правда, В. Мартынов вынужден отметить, что «по своему принципу воздействия на сознание музыка иудеев мало чем отличалась от музыки соседствующих с ними народов»… Эта генетическая связь ветхозаветной музыки с магико-мистической природой музыки, свойственной языческим культам окружающих народов, заложена уже в самом Моисеевом законодательстве» (Мартынов, с. 117), где речь идет о серебряных трубах, с помощью которых призывается Господь. «По утверждению святителя Иоанна Златоуста музыка была попущена Богом иудеям по их духовной немощи, жесткосердию, а также для того, чтобы отвлечь их от соблазнительной пышности языческих культов» (Мартынов, с. 116).
Итак, выстраивается следующая логика. В Ветхом Завете заложено негативное отношение к музыке, но иудеям разрешено ее использование в светских и культовых целях с учетом их «духовной немощи». Христианская церковь полностью отвергает прежнюю музыку, как культовую, так и светскую, но создает (или пытается создать) молитвенное пение, которое, однако, в себе имеет тенденцию деградировать до той же отвергаемой музыки. Поэтому не удивительно, что ислам отвергает музыку в целом, несмотря на попытки некоторых исламских философов и литераторов спасти от запрета «серьезную» музыку. Как часто бывает в таких ситуациях, «серьезная» музыка для мудрецов страдает, «легкая» же музыка для толпы оказывается живучей.
Не от мира сего?
Аврамическим религиям свойственно неискоренимое чувство превосходства над другими традициями, а их теологам – постоянное желание доказать, что несмотря на сходства в символах и методах духовной практики с более древними традициями, данная конкретная религия обладает неким системным качеством, неким неуловимым свойством, возносящим ее не только над «языческими» традициями, но и над другими религиями того же корня. Эта тенденция характерна и для иудаизма, и для христианства, и для ислама.
Возможно, это не просто юношеский максимализм, агрессивность молодой традиции, а истина, которую нам не дано узреть. Но поскольку адепты той или иной религии в желании доказать ее превосходство прибегают к логическим аргументам, появляется возможность рационального их рассмотрения. Приходится признать: в целом, аргументы, приводимые приверженцами той или иной религии, чаще всего свидетельствуют не столько о Высшем знании, сколько о незнании других традиций, априорном убеждении в превосходстве собственного Пути.
В. Мартынов, несмотря на очевидную свою талантливость и эрудицию, несмотря на красиво выстроенную схему этапов развития инструментальной музыки – от магического через мистический и этический к эстетическому – не стал исключением. Цель его книги – доказать высшее, нет, принципиально иное происхождение и характер церковного пения. Эта постулируется, доказывается им, несмотря на прекрасное знание мистического характера музыки в различных традициях, несмотря на доказанность сильнейшего влияния на формирование церковного пения эллинистической и др. традиций, несмотря на неопределенность исторического периода, в котором богослужебное пение существовало в том виде, в каком его хочет реконструировать исследователь (то, что пение это уже много веков не является «пением молящегося сердца», «духовной вибрацией», «превращающей человека в бестелесного ангела», то, что оно теперь мало чем отличается от попираемой им музыки, автор не отрицает).
Впрочем, полемика с талантливой книгой русского исследователя не является нашей целью. Наша задача – используя изложенное в книге, понять негативное отношение современных религий к нашей музыке, а также, отталкиваясь от изложения христианского автора, сформулировать свои представления о казахской музыке и казахской духовной традиции.
Основной прием исследователя, примененный быть может бессознательно, состоит в сравнении эзотерических (предназначенных для посвященной духовной элиты) знаний христианства с обломками экзотерических (внешних,. предназначенных для «широкого пользователя») представлений древних традиций. При такой постановке проблемы, разумеется, христианство и христианское сакральное искусство молитвенного пения выглядит более глубоким, точнее, высоким. При этом, выставляемый в качестве планки уровень христианского мироощущения не существует в реальности, более того, автор затрудняется указать исторический период, когда такой уровень был хоть сколько-нибудь распространен. Таким образом, речь идет об абстракции, идеале.
Например, такой пассаж: «Однако аскетический подвиг не исчерпывается только лишь созданием прекрасной светоносной личности. Ибо личность эта, соприкасаясь с миром, делает мир причастным к той Красоте… Аскетика, постигающая Красоту как таковую, которая есть причина и корень всякой красоты, в свою очередь и сама является причиной и корнем всякого искусства и художества… Аскетика представляет собой необходимый фундамент того живого духовного синтеза, … который явлен нам в православном богослужении, объединяющем в себе зодчество, гимнографию, иконопись, пение, каллиграфию и другие ремесла, претворяющие образ высшей небесной Красоты…» (Мартынов, С. 27).
А вот традиционное казахское понимание проблемы, выраженное кюйши и писателем Т. Асемкуловым: «Настоящее искусство – высокая вершина. Но эта вершина не нечто отдельное от человеческой души, духовности… Вершина – это внутреннее состояние человека, достигшего духовной зрелости… Искусства должны быть не самоцелью, а техникой развития духовного потенциала человека, который затем может изливаться в любой сфере… В этом… смысл казахских поговорок «Сегіз қырлы, бір сырлы» («Человек с восемью гранями-свойствами и единой сутью») и «Өнерді үйрен, үйрен де жирен» («Научись искусству, а затем отринь его», что должно пониматься не в буквальном смысле отказа от искусства, а как требование не превращать искусство в самоцель)» (Асемкулов Т. Будущее искусства кюя // «Рух-Мирас», № 2 (5), 2005. С. 86-87). За разницей понятий «аскетика, аскетический подвиг» и «духовность, духовный потенциал», высказывания эти близки друг другу.
В. Мартынов вдохновенно говорит об особом синергийном состоянии культуры Московской Руси, которое он называет иконосферой – синкретическим явлением, не поддающимся анализу. Вычленение из живого тела иконосферы богослужебного пения в ходе анализа, отделение его от устава, гимнографии, аскетики и богословия, представляется ему насилием. «Синтетическое знание подразумевает отрицание отвлеченной теории… То, что называют «интеллектуальным молчанием», есть не показатель неполноценности древнерусской культуры, но следствие фундаментальных свойств иконосферы, в которой уровень глубины знания определяется не качеством слов и не сложностью структурных схем, но уровнем результативности практической операции… В условиях иконосферы одно слово, один скупой жест, одно простое действие заключает в себе целые богословские и аскетические системы, находящиеся в этих словах, жестах и действиях в некоем свернутом состоянии» (Мартынов, с. 185-186).
«…Тенгрианство представляет собой не религию — мир жестко фиксированных, до автоматизма отработанных ритуалов и догматов, а мифологию — динамичный мир постоянного становления и порождения смыслов, адекватной формой выражения которого являются кюй, орнамент, жест, взгляд, притча…» (Наурзбаева З. «Изначальный ислам – тенгрианство…»)
Мартынов В.: «Страх Божий есть страх утраты проблеска Красоты как таковой, страх поглощения этого проблеска красотою мира, наконец, страх подмены Красоты как таковой красотою мира. Это состояние страха Божьего порождает эстетическое пространство особой напряженности, концентрации и сосредоточенности…» (Мартынов, с. 34).
Православный автор тенденциозно забывает, что доаврамические традиции идут из времени, когда стена между небесным и земным не была столь плотной и непреодолимой, а потому и не существовало судорожного страха «поглощения Красота как таковой красотою мира». Но ислам, как религия Последнего Откровения, возобновляющая древнейшую традицию, не должен забывать об этом.
Не возвращаясь к аргументации, развернутой в статье «Изначальный ислам – тенгрианство – в наследии жырау», мы поговорим о возникновении музыки так, как это отражено в тюркской мифологии. При этом конечно следует учитывать, что и сама эта мифология, не зафиксированная в древности, трансформировалась в ходе истории.
Музыка смерти
По мнению В. Мартынова, «каждый настоящий молитвенный текст есть божественное откровение», дарованное сознанию Богом (Мартынов, с. 113), в то время как музыка возникает в конечном счете из физически слышимого звука, связана с ритмизирующими групповой труд возгласами. «Любое мироустройство, любое строительство просто не может не сопровождаться шумом и различными звуками, ибо как невозможно срубить дерево или обтесать камень, не нарушив тишины, так же точно невозможно организовать слаженные групповые действия без ритмизирующих возгласов, из которых и родились древнейшие трудовые песни» (с.94).
Но ведь тюркская культура – это культура воинского сословия (об этом см. подробнее нашу статью «Последний поход Кет-Буги»), и тюркская музыка, по мнению музыканта и писателя Т. Асемкулова, возникает не из шума стройки и не из ритмизирующих трудовых возгласов, а из воинского экзистенциального опыта смерти (см. статью Р. Жуманиязовой «Традиционная музыка как искусство воинской касты»).
В этом контексте становится понятным главный критерий нашей традиционной музыки, выраженный Т. Асемкуловым: «Лишь то может называться музыкой, что не потеряется рядом со смертью, может стоять вровень с ней». При этом наша традиционная музыка практически не знает минора. Даже смерть воспевается (именно, воспевается!) в казахской музыке в мажорном настрое, потому что в тюркской традиционной культуре смерть является кульминацией красиво прожитой жизни.
Итак, смерть… Этот мотив действительно настойчиво звучит в самых разных казахских мифах о возникновении музыки.
Коркут пытается убежать от смерти, но не найдя бессмертия, возвращается в центр мира, приносит в жертву своего верблюда и, создав кобыз, играет, плавая на шкуре верблюда (или на коврике) по Сыр-Дарье. Казалось бы, в этой легенде Коркут пытается защититься музыкой от смерти и терпит поражение. Но не будем забывать, что это поздний вариант мифа. И даже в этом позднем варианте музыкальный инструмент создается благодаря смерти священного существа – лебедя или крылатого верблюда (подробный анализ этих легенд см. в «Мифоритуальные основания казахской культуры»).
В эзотерическом варианте мифа музыка и смерть (могила) являются ипостасями самого Коркута (см. «Коркут и тенгрианство»).
В мифе о Нуртоле мальчик-музыкант с помощью музыки уводит огненных змей-духов в море, в потусторонний подводный мир (см. «Судьба тенгрианства и миф о Нуртоле»).
В архаичном мифе о Камбаре первые музыкальные струны – это высохшие на ветвях дерева внутренности выпотрошенной охотником дичи, а в легенде «Мунлык-Зарлык» – высохшие тельца повешенных на байтереке младенцев-близнецов. В позднем суфийском варианте легенды о Камбаре скакун, слушая музыку дутара, перестает пастись и чахнет день ото дня (см. «Камбар и возрождение Золотого века»).
Все эти и другие тюркские мифы о возникновении музыки не слишком-то близки «суете дольнего мира», «началу мирообустройства без расчета на помощь Божью». Изначально уважительное отношение к смерти охотника, скотовода и воина осмысляется, становится источником новых откровений в ходе развития традиции.
В романе Т. Асемкулова «Полдень» о судьбе современного традиционного музыканта впечатление от прослушивания кюя музыканта ХУШ века Шал Казаха «Калмыцкий танец» передается следующим образом: «Как будто на мгновение приподнялась крышка кипящего котла горя, и одна капля неизбывного страдания выплеснулась, с шипением пролилась в огонь. Игра и смех, танец и песня – лишь покров страдания. Все заключается в умении высказать!»
Герои романа – старые традиционные музыканты – умеют подняться над горестями трудной жизни, над ужасом череды смертей от бесконечных войн, голода и репрессий, над болью от сознания неумолимо приближающегося конца древней традиции, которую они хранят. Перед лицом смерти прошедший через земной ад старик Сабыт восхищается красотой сотворенного Богом мира и благодарит Творца за все.
Слушая интерпретацию домбристом Газизом кюя Таттимбета «Зар Косбасар» («Косбасар горького плача») главный герой понимает: «Исполнение кюя-плача, оказывается, может быть столь прозрачным, без тени горя… Не существует неисчерпаемого горя, неугасающего страдания…Все угасает, все проходит…В голосе домбры нет никакого горя…Но от этой прозрачнейшей чистоты как будто бы сдвинулось какое-то другое страдание, вступило в какое-то новое, неизвестное доселе пространство сознания. Если бы нравственная чистота (вера) имела бы язык, она говорила бы вот так. С удивлением и радостью Аджигерей почувствовал, что он повзрослел».
«Другое страдание» – это осознание земным, смертным существом своей ограниченности, своей смертности и тоска по Абсолюту, по тому, что бессмертно и безгранично. Лишь смерть как возвращение к Абсолюту способна исцелить это страдание. Поэтому казахская традиция радуется земному миру как проявлению Божественной красоты и радуется смерти как возвращению к Истоку. И в этом тюркское традиционное мировосприятие близко исламу, который в отличие от христианства не отвергает этот мир как греховный по сути, а считает мир этот – Книгой, наряду с Кораном выражающей высшую истину в доступной человеку форме.
Шепот Тенгри
«Сколь бы отрешенными «от мира сего», сколь бы духовными и «надмирными» не казались нам проявления музыки, все равно все они несут на себе печать мира, ибо их первоначальным импульсом всегда будет являться физически слышимый звук… Сознание, обремененное земными звуками, не способно услышать небесное звучание…» (Мартынов, с. 81).
Мир был создан из звука – наши предки утверждали это, как и большинство восточных культур. Индийские мудрецы учат, что основой всего является звук, и потому высшее бытие они называют “сабда-брахма”, “Бог есть звук”. Но это не физический звук, его невозможно услышать обычным слухом. Но “то, что Мухаммед слышал в пещере Гар-е Хира, когда он глубоко погрузился в свой божественный идеал, был именно Саут-е Сармад, звук абстрактного плана. Коран упоминает этот звук в словах “Будь! И все стало”. Моисей слышал этот самый звук на горе Синай, когда общался с Богом; и то же слово было слышно Христу в пустыне, когда он был принят в лоно своего Небесного Отца. Этот звук есть источник всего откровения для Мастеров, которым он открывается изнутри; именно поэтому они знают и учат одной и той же истине”. Этот звук, как пишет индийский суфий-музыкант Инайат Хан, наиболее приближенно на физическом плане можно передать как придыхание “Ху”, в исламском мистицизме являющееся символом Духа.
Казахи кюй называли “Тәңiрдiң күбiрi” – шепот Тенгри (Т.Асемкулов) и поклонялись музыкантам, способным слышать Всевышнего. Кажущиеся нам теперь экзотическими техническими ухищрениями приемы, выработаннные в ходе многотысячелетнего развития тюркско-монгольской музыки, призваны дать хоть какое-то представление слушателю о невоспринимаемом физическим слухом абсолютном звуке, приобщить его к переживанию высшего бытия. А.Маргулан писал, что слово “күй” является фонетической трансформацией слова “көк” – небо. Слова “күй”, “күбiр” передают звук-придыхание ”Ху”, о котором пишет Инайят Хан.
Нет смысла для нас дальше дискутировать с православным композитором и теоретиком, который гораздо лучше нас знает историю музыки, подробно расписывает этапы ее развития: магический, мистический, этический и эстетический, находя возможность обесценить их ради фантома, которого скорее всего никогда не было. Понятно, что это идет из общей тенденции христианства предъявлять чрезмерно завышенные, заведомо невыполнимые для земного человека требования. Уже давно известный психологии способ манипулировать человеком, сформировав у него неизбывное чувство вины.
В исламе всегда борются две тенденции. Одна из них, свойственная аврамическим религиям вообще, – это крайняя нетерпимость, стремление к отрицанию всего идущего извне, заведомое чувство собственного превосходства. Вторая тенденция, отличающая ислам от родственных религий, – это стремление к равновесию в отношении к дольнему миру, приятие и уважение предшествующей мудрости, связанное с доктриной единства, в том числе единства Откровения, открывавшегося человечеству тысячи раз до ислама.
Какая из этих тенденций победит – зависит в конце концов от каждого человека, берущегося проповедовать от имени Аллаха. Будут ли такие проповедники помнить, что «разжигающая земные страсти музыка для толпы» неуязвима, и они борются всегда лишь с музыкой для мудрецов? С музыкой наших предков, о которой Т. Асемкулов говорит так: «Почему казахи такой добрый народ? Добрый к детям, к страждущим. Для казахов мир создан из музыки, из кюя. Весь этот огненный мир как будто изливается из кобыза Коркута. Звучащий кюй – это только проявленная часть музыки. Весь мир – взгляд ребенка, мольбу гибнущего человека, пришедшего к твоему порогу, за которым быть может гонятся враги и который быть может – последний в роду, это тоже музыка, прекрасная и печальная».
2012