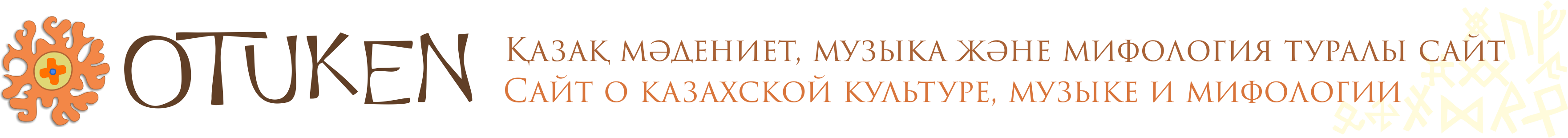Зира НАУРЗБАЕВА
М. Элиаде отмечал, что «природа представляет собой нечто, обусловленное культурой», что так называемые «законы природы» варьируются в зависимости от того, что понимают под «природой» народы той или иной культуры. М. Элиаде также разрабатывал мысль о том, что каждое явление, в особенности, вид культурной деятельности (или его отсутствие) отражается на менталитете того или иного народа, создавая определенные ментальные структуры, выражающиеся затем в мифах и ритуалах.
Рассуждая о влиянии земледелия на человечество, он отмечал: «Ход истории  определило не изобилие пищи и не демографический взрыв (связанные с освоением земледелия. – З.Н.), а скорее теория, которую человек вывел, открыв земледелие. Основным уроком для него стало то, что он увидел в зерне, то, чему он выучился при работе с ним, то, что он понял, наблюдая слияние семени с землей. Земледелие дало человеку Откровение о фундаментальном единстве всей органической жизни; отсюда – аналогии между женщиной и полем, между половым актом и посевом, отсюда же – более глубокий, интеллектуальный синтез: ритмичность жизни, смерть как возврат к единству и т.д.» (Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. С. 331).
определило не изобилие пищи и не демографический взрыв (связанные с освоением земледелия. – З.Н.), а скорее теория, которую человек вывел, открыв земледелие. Основным уроком для него стало то, что он увидел в зерне, то, чему он выучился при работе с ним, то, что он понял, наблюдая слияние семени с землей. Земледелие дало человеку Откровение о фундаментальном единстве всей органической жизни; отсюда – аналогии между женщиной и полем, между половым актом и посевом, отсюда же – более глубокий, интеллектуальный синтез: ритмичность жизни, смерть как возврат к единству и т.д.» (Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. С. 331).
Кочевники не были чужды результатам этого осмысления земледелия. Свидетельством тому образ матери-земли, а также фундаментальное табу на вскапывание земли и т.п. действия, рассматривавшиеся как инцест. Этот запрет настолько силен и древен, что раджпуты – потомки ушедших в первой половине 1 тыс.н.э. в Индию скотоводческих племен саков и гуннов – сохранили его в течение полутора тысячелетий в неизменном виде, несмотря на коренное изменение образа жизни на новой родине. Раджпуты – строители и обитатели каменных крепостей – были вынуждены прибегать к разного рода уловкам, чтобы оправдать рытье защитных рвов вокруг своих крепостей (сами они, разумеется, эту работу не делали).
Из земли возрастает трава – корм для скота, и все-таки для кочевников земля – не столько рождающее, сколько пожирающее лоно.
Объясняя скифский обычай орнаментировать подошвы обуви, А. Кажгалиулы пишет: «Так как подошвы всадников были всегда открыты взорам тех, кто был обречен стоять на земле, наверное, можно было бы истолковать узор на подошвах как указание на дистанцию, разделяющую и отделяющую грифона (всадника-воина – З.Н.) от пешего… Главной целью являлось всяческое избегание кочевником непосредственного контакта с землей. Одна из основных функций орнамента – апотропейная (охранительная). Потому скифские мужчины и женщины никогда не сидели на полу, т.е. на голой земле. Они сидели на украшенных орнаментами войлоках и коврах… Умирая, человек становится частью земли, прахом. Но доколе он способен передвигаться в пространстве, человек жив… Причем передвигаться не по земле, а над землей, верхом…» (Алибек Кажгали улы Малаев. Казахские пиктограммы. Алматы, 2009. С. 87).
Отсутствие земледелия – это не только отсутствие крестьянской привязанности к конкретному «своему» клочку земли (см. нашу статью «Казахи – гости на родной земле?»), но и во многом отличающийся мифологический образ матери, другое представление о зарождении жизни и о смерти. Древнетюркская Умай часто трактуется как небесная богиня, на поле брани она принимает души погибших храбрецов, чтобы унести их в воинский рай. Плодородие, души детей и детенышей домашнего скота құт даруются свыше. Скотоводы сакрализуют молоко, материнское молоко разлито в космосе, молоко небесной кобылицы проливается дождем на землю (см. нашу работу «Коркут в тенгрианстве», главу «Семь ипостасей Коркута», а также подробный разбор символизма молока и грудного вскармливания в Книге третьей «Мифологии предказахов» С. Кондыбая). «Ақ» – белое – молочные продукты рассматриваются как сакральное небесное начало, на это представление накладывается исламское понятие Хақ – Истина, одно из имен Аллаха.
Анализируя в статье «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначального смысла» эпос «Козы-Корпеш – Баян-сулу», эпизод, где мать Козы препятствует сыну в его стремлении отправиться на поиски нареченной невесты, Т. Асемкулов указал на присутствие мотива инцеста. Рассуждения Э. Фромма о инцестуальных связях и о кровосмесительной по своей сути привязанности к матери, которая естественным образом перерастает в любовь-зависимость к своей земле, к семье, роду, народу, позволяют лучше понять масштаб проблемы, которая все еще требует осмысления, сравнительного анализа кочевой и оседлой ментальности в нашей этнопсихологии. Пока очевидна прямая связь кочевничества с нашей переимчивостью, незащищенностью от ассимиляции.
Своеобразие отражения в нашей традиционной культуре «связанного с земледелием Откровения» – это лишь одна сторона вопроса. Гораздо более важной и неоцененной в теоретическом плане является проблема влияния скотоводства и кочевничества на ментальный синтез кочевых народов. Один из аспектов этой большой проблемы был рассмотрен в нашей статье «Ерттеу – седлание коня. Понятие культуры и культурогенез в мифологии тюркских кочевников (По трудам С.Кондыбая «Введение в казахскую мифологию» и «Казахская мифология. Краткий словарь»). С.Кондыбай рассматривает конкретное деяние, связанное с приручением, седланием коня («ер ету», «ерттеу»), и его дополнительное, мифокультурное значение, определяемое значимостью коня для кочевников. Неоседланная неприрученная дикая лошадь символизирует дикость, отсутствие Ар\Ер, хаос. Приручение коня, изобретение седла, седлание коня, нанесение тавра (тамги) – исчезновение хаоса, принятие неких правил, законов, появление культуры и письменности…
Эта концепция С. Кондыбая очень важна, т.к. понятия «культура», «мәдениет» этимологически и по значению непосредственно связаны с земледелием, оседлым, городским образом жизни, а потому в строгом смысле не могут применяться к кочевникам-скотоводам.
По некоторым предположениям, кочевое скотоводство постепенно возникает из охоты как результат развития существующего в природе симбиоза стадных копытных животных и хищников, следовавших за миграцией огромных табунов травоядных. Особенно выразительно эта тенденция прослеживалась в этнографии североамериканских индейцев – обитателей прерий, следовавших за стадами бизонов и охотившихся на них. Бизоны настолько привыкают к постоянному присутствию людей, старающихся без нужды не беспокоить их, что самки бизонов позволяют доить себя женщинам.
Различие между таким охотничьим образом жизни и выпасом казахами полудиких табунов лошадей малозначительно в рамках рассматриваемой нами проблематики. Весной во время великой охоты «улуг ау» весь народ превращается в загонных охотников, а дикие животные Великой степи в скот, собираемый народом охотников-скотоводов в одном месте для сортировки и массового забоя. К тому же охота как самоценный образ жизни продолжает артикулироваться в казахской классической культуре до последнего периода. Герой эпоса «Камбар-батыр» прямо говорит о себе как охотнике, а не пастухе.
Не выкорчевывание диких растений и посадка культурных, а полудикий выпас, охрана, регуляция передвижений и численности, клеймение (освоение в смысле кодирования) созданных Всевышним животных – это специфика кочевого скотоводства. Если для оседлой культуры природа становится чем-то диким, неосвоенным, подлежащим освоению – огораживанию, выкорчевыванию и пр., то для кочевников (выводящих новые породы скота путем длительной селекции естественных изменений, добивающихся оптимального травостоя перемещением скота) она сохраняет статус имеющей собственные, независимые от человека, равные с ним права и происхождение. Поэтому еще в начале ХХ века в казахской степи бродили миллионные стада сайгаков – естественных соперников домашнего скота за питание.
Для тенгрианства травинка, сайгачонок, муравей и человек в абсолютном смысле, перед лицом общего для всех Творца равны, а природа, мир в целом божественен и совершенен. Несмотря на однозначно привилегированное положение человека, подобное отношение к окружающему миру присутствует и в исламе. Согласно некоторым хадисам, убитый безвинно воробей будет в Судный день свидетельствовать против своего убийцы. Одному из великих пророков древности, сжегшему муравейник «открылся Бог, говоря: «Тебя укусил муравей, но ты сжег тварей (таких же, как ты сам), которые праздновали во славу Господню)» (Изречения Мухаммеда. Исламабад. Академия Дауа, 1994. № 36, 46).
Вообще говоря, монотеизм, по мнению М. Элиаде, характерен именно для скотоводческих народов. Для многих архаических земледельческих народов роль мужчины и полового акта в зачатии потомства остается долгое время скрытой, возникают самые фантастические теории зачатия женщиной ребенка (на патриархальном этапе у земледельческих народов появляется представление о дожде – небесном семени, оплодотворяющем землю), соответственно, формируется архетип всепорождающей Великой Матери, имеющей периодически умирающего и возрождающегося под землей сына-мужа. Для скотоводов же роль самца-производителя в продолжении жизни и охране своего косяка известна из непосредственных наблюдений, соответственно рано возникает и постоянно актуализируется архетип единого Отца, творящего, защищающего и одновременно наказывающего.
Скотоводческий цикл не ограничивается одним годом, как у земледельцев, поэтому скотоводам свойственно более масштабное временное восприятие (см. работы докт. искусствоведения, проф. А. Мухамбетовой о 60-летнем цикле тенгрианского календаря), историчность мышления, вопреки широко цитируемым у нас штампам западных номадологов об «отсутствии чувства времени у номадов».
В повседневной жизни мы привычно не замечаем одну из уникальнейших особенностей нашей культуры: высокое развитие эпосов, исторических преданий, наличие генеалогий-шежире, причем не только у правящих или аристократических, но и у обычных казахских родов (хотя обычных родов у казахов практически нет, все «аталы» – имеющие предка и место в общей генеалогии – рода в какие-то периоды истории являлись правящими у тех или иных народов Евразии). Необходимо дистанцироваться, чтобы оценить эту нашу особенность.
Например, каждый раджпутский клан имел свою историю, непрерывную генеалогию, дополнявшуюся историческими преданиями, эпическими песнями, исполнявшимися на праздниках представителями особых каст генеалогов. «Само существование этого жанра источников для Индии – редкость. Раджпуты ценили свою историю» (Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. М. 2000. С. 45).
«Раджпутские исторические и героические песни и сказания очень многочисленны; на их основе были составлены исторические хроники отдельных кланов и кул. Уместно сказать, что сама по себе историко-биографическая традиция раджпутской культуры – явление уникальное для Индии, если иметь в виду характерное для мировоззрения древних и средневековых индийцев вполне индифферентное отношение к истории… Раджпуты – народ с развитым чувством времени, с чувством истории. Память о подвигах и деяниях предков наполняла великим смыслом жизнь каждого раджпута, который ощущал себя хранителем традиции, звеном в цепи поколений» (Там же. С. 124).
Е.Н.Успенская источником такого интереса к истории считает постоянный риск, чувство опасности, сопровождавшее жизнь раджпутов-кшатриев, заставлявшее их, в отличие от остальных индийцев, особо ценить красоту каждого мига краткотечной жизни. Этот фактор несомненно присутствует как в культуре раджпутов, так и в воинской культуре тюркских кочевников. Но не менее весомым фактором было стремление потомственных скотоводов селекционировать не только лучшие породы скота, но и лучшие породы людей (у арабов, как известно, родословные книги породистых скакунов представляли драгоценное родовое наследие).
Точные генеалогии «были абсолютно необходимы для поддержания брачных контактов внутри раджпутской общности» (Там же. С. 45). Из своей степной жизни раджпуты принесли идею запрета браков родственников до седьмого колена по линии отца и до пятого колена по линии матери, хотя в реальной жизни имели место и кросс-кузенные браки. Вообще интересно коренное отличие принципа селекции у тюрков-кочевников от других народов Евразии. Как известно, выведение высокопородистого скота обычно основано на близкородственном скрещивании. Точно также и аристократические фамилии, например, Европы, грешат близкородственными браками, часто ведущими к вырождению. Кочевники же Великой степи руководствуются пословицей «Текті айғыр өз байталына шаппайды» («Породистый жеребец не будет покрывать кобылку из своего потомства»).
Эта противоположность подхода к селекции связана, во-первых, с отношением к природе как к чистому, сильному, возрождающему и обновляющему истоку в одном случае, и как к чему-то неприемлемому, требующему преодоления и запрета, – в другом. Во-вторых, речь идет о широком базисе для селекции, богатом наборе признаваемых «качественными» генов у кочевников, и отсутствии такого базиса у оседлых народов.
В сущности, второй фактор сводится к первому. Казахи всегда имели возможность скрестить своих лошадей с их предками – дикими лошадьми-тарпанами, вольно пасущимися в степи, чтобы улучшить боевые качества и выносливость кавалерии. Европейцы, вывозя дорогих породистых лошадей из Аравии, не имели такой возможности, точнее, не воспринимали ее (дикие лошади до сих пор существуют в неосвоенных человеком европейских ландшафтах). Аристократические европейские рода, ведущие свое начало от кочевников Великой степи, были озабочены сохранением «чистоты» своей крови в генетически чуждой среде (Франко Кардини в «Истоках средневекового рыцарства» указывает, что предками рыцарей были воинственные восточноиранские (разумеется!) кочевники, пришедшие в Европу во время Великого переселения народов, А. Дугин говорит о преобладающе степном происхождении европейской аристократии). Для самих тюрков такой проблемы не существовало, т.к. каждый «аталы» род имел точную генеалогию и признавался породистым (о смысле выражения «черная кость» в значении «основной, древний, главный, старший, наибольший род» см. нашу статью «Берег белой кости»).
Разумеется, свою роль играл и кочевой образ жизни, предполагающий более широкий пространственный масштаб, больший круг контактов, а также и архетип Отца.
Интересно, что если европейцы говорят о «чистоте крови», о «голубой крови», то у тюркских народов существовало представление о том, что кровь (а также зачастую творческие способности) человек наследует по линии матери, а по линии отца наследуется «кость». Кость считается эссенцией жизненной силы рода, у алтайских тюрков род так и называется «сеок» (ср. каз. «сүйек»).
Казахи до исторического времени сохраняли обычай «собирания костей» умерших членов рода в родовой усыпальнице-саганатаме (см. статью А. Сейдимбека «Сүйек қосу» // «Рух-Мирас», 200 №). Саганатам состоял из двух комнат: покойника клали в переднюю комнату, когда через определенный период времени кости очищались от мяса, их через небольшое отверстие переносили в заднее помещение. Тело погибшего в походе аламана, по возможности, также привозили на родину, в дальних походах тело погибшего воина старались закрепить высоко на дереве, с тем чтобы на обратном пути доставить кости воина-родича в родовую усыпальницу.
Этот обычай, по всей видимости, восходит к тотемному мышлению. Все члены рода составляют единый организм-тотем, и чтобы этот род-тотем мог самовоспроизводиться, возрождаться, необходимо сосредоточить в одном месте жизненную силу рода в виде костей умерших его членов, это своего рода семя рода.
Вообще говоря, тюрки – охотники, скотоводы и воины, хорошо знавшие устройство тела человека и животного – создали особый анатомический код для описания не только родственных отношений, но и мира в целом. В качестве примера можно упомянуть широко известное «бауыр» – «печень», «кровный родственник», «кости» юрты – ее деревянный остов. При анализе эпоса «Кобланды» мы показывали символизм слова «туяқ» – «копыто» в значении «отпрыск», «наследник рода». Казахские распространенные выражения «қабырға қайысу» (букв. «ребра вогнулись» о горюющем человеке), «қабырға майысу» (букв. «ребра выгнулись» о беременной женщине), «буыны қатқан жоқ» (букв. «суставы не отвердели» о подростке, чье формирование не завершено), «омыртқасы жеткен жоқ» («позвоночник не вырос до конца», также о юном существе) – это все наше духовное наследие, в контексте которого творение Евы из ребра Адама у семитов-скотоводов выглядит вполне закономерным.
Возвращаясь к нашей работе 1995 г. «Мифоритуальные основания казахской культуры», тотем – это не просто животное-родоначальник, тотем есть форма осмысления мира, космоса… Тотем-зверь – вожак коллектива и весь коллектив, его отец, родоначальник, глава и тело коллектива, совокупность всех его членов. Отсюда возникает метафора тотема-вожака, убивающего, расчленяющего и поедающего тотема-зверя, т.е. самого себя. Тождество охотника и зверя, субъекта и объекта, смерти и рождения (когда смерть в одном мире означает рождение в другом ), человеческого коллектива и вселенной, лежит в основе ритуального мышления, центральным нервом которого является ритуал жертвоприношения тотема – человека или зверя, — представляющий грандиозный акт перевоссоздания социума и вселенной.
“В основе древней символики коллективной трапезы лежала идея демонстрации тождества обоих структур – рода как социального организма и тела жертвенного животного.
С другой стороны, глубинная связь символики еды и жертвы заставляет вспомнить нас мифы о сотворении мира, согласно которым Вселенная возникает в результате разделения на части того, что было раньше единым. Эта операция сопровождается утверждением порядка, структуры, а в социальном плане – иерархии, соподчинения. Коллективная трапеза с расчленением туши животного…быть может восходит к неким древним ритуалам, базирующимся на представлениях о первой жертве (первопредке), из расчлененного тела которой возник Космос» (Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал, 1990, с.43).
Расчленение жертвенных животных использует анатомический код как для оформления социальных структур, когда род осмысливается как единое тело, так и для оформления пространственно-временной структуры вселенной. В связи с пространственно-временным изоморфизмом различные части животного воплощают не только строение вселенной (голова – верхний мир, туловище – средний мир и т.п.), но и отрезки времени, части определенного временного цикла, чаще всего, года. Как известно, большинство ритуалов связывалось с различными сезонами годичного цикла, а сам год представлялся некоей ипостасью тотема-космоса (отсюда ритуал проводов – а то и убийства-жертвоприношения – старого года и встречи нового). В коллективных ритуальных трапезах казахов, например, наряду с головой жертвенного животного, выделяют двенадцать почетных частей (жiлiк, мүше), которые видимо, ассоциировались с 12 месяцами года (жыл) или 12 годами временного цикла мушеля.
Вообще говоря, идея жертвоприношения, также как идея возникновения вселенной из расчлененного тела жертвы, очевидно, возникает именно в среде скотоводов. Поэтому в Библии Бог принимает агнца, принесенного в жертву скотоводом Авелем, но отклоняет растительную жертву земледельца Каина.
Гуманистический психолог Э. Фромм с немалой долей ужаса и весьма пристрастно обсуждает особый тип насилия – «архаическую жажду крови. При этом речь идет не о насилии психопата, а о жажде крови человека, который полностью находится во власти своей связи с природой. .. Речь идет об опьянении жизнью в своей крайне архаической форме; поэтому человек, после того, как он достиг на этой архаической почве соотношения с жизнью, может вернуться к высшему уровню развития, а именно к утверждению жизни через собственную человечность. При этом следует здесь иметь в виду, что эта склонность убивать (уравновешенная готовностью быть убитым. – З.Н.) не то же самое, что любовь к мертвому. Кровь тождественна здесь эссенции жизни» (Фромм Э. Душа человека. М., 1998. С. 43-46).
Эту тему мы подробнее рассмотрим в статье о теме смерти в жизни и искусстве воинской касты, здесь же хочется просто отметить: смерть и погребение в земле как возращение к матери и возрождение к новой жизни – это земледельческий архетип, так в земле умирает и возрождается зерно, этот архетип прослеживается и в культуре наших предков: древние погребения в позе зародыша, сказки, в которых главный герой должен зарыть в землю кости животного-покровителя, чтобы обрести покровительство в новой форме, богатство и т.д. Но собственно кочевой архетип – это не смерть-возрождение, иначе, реинкарнация, а смерть как кульминация жизни, ее апофеоз, вознесение на принципиально другой уровень.
Все еще актуальный казахский обычай «cыбаға», когда определенные фрагменты туши сохраняются для угощения определенных лиц, исходя из взаимных отношений родства, или порядок подачи блюд с определенным размещением муше на тоях, так же как и обычай угощать детей бараньими ушами, языком и др. с определенными присказками, сказки о том, как бедняк умно разделил тушку гуся и т.п. – все это рудименты коллективной трапезы – жертвоприношения тотема.
Проанализированные С. Кондыбаем в Книге третьей «Мифологии предказахов» сказки о старухах с зооморфными рудиментами (например, с «птичьей или костяной ногой»), о трех калеках, которых эта старуха проглатывает и возрождает здоровыми, о расчленении этой старухи, в косточки своего мизинца спрятавшей героя-музыканта, так же как и представления о лишней кости у прирожденного шамана, о шаманской инициации, когда духи расчленяют будущего шамана, меняя ему некоторые органы, – все это и многое другое, например, русские сказки о Кощее Бессмертном и Бабе Яге Костяной Ноге, есть наше наследие, осколки анатомического кода, созданного охотниками и скотоводами. Кем-то из исследователей ранее была выдвинута также гипотеза о происхождении сакрального отношения к числу семь еще со времен шумеров (семь небес, семь планет) от семи шейных позвонков.
Подводя итоги, если земледелие, по словам М. Элиаде, дало человеку Откровение о фундаментальном единстве всей органической жизни; аналогии между женщиной и полем, между половым актом и посевом, отсюда же – более глубокий, интеллектуальный синтез: ритмичность жизни, смерть как возврат к единству, то скотоводство эту интеллектуальную интуицию единства органической жизни, ритмичности жизни сформулировало совершенно на другом уровне. Оценить разницу, можно сопопставив земледельческий цикл длиной в один год и цикл тенгрианского календаря в 60 лет.
Анатомия и физиология животного (и человека) является гораздо более сложным, чем строение и функционирование растения, к тому же индивидуальная (а для скотовода каждое животное даже в многочисленном табуне или отаре имеет индивидуальный облик и характер) и коллективная жизнь животных представляет, как минимум, не менее богатый материал для наблюдений, чем вегетативный цикл в земледелии. Поэтому неудивительно, что у наших предков возникает не просто представление о единстве органической жизни, возвращении в смерти к единому началу, но представление о сложных структурах, взаимодействии взаимосвязанных и соподчиненных частей единого организма, их иерархии, о равновесии и гармонии их деятельности. Эти представления о системности переносятся с уровня отдельного живого организма на родовой коллектив, человеческое сообщество, природу и мир в целом.
Еще один интересный аспект ментальности тюрков-кочевников раскрыл физик Д. Мадигожин в великолепном (и во многом спорном, разумеется) этическом эссе «Логика Небесного Закона»: «Можно предположить, что развитию сложных понятий доверия у кочевников предшествовало развитие технологии приручения животных, которые включают значительные элементы доверия между человеком и зверем. Скотоводы разработали удивительно сложные симбиозы между людьми и другими видами…Во всех этих случаях степные кочевники вырабатывали приёмы проявления доверия к другим биологическим видам, что требовало умения мыслить за этих сильно отличающихся «других». Конечно, другой человек — это не животное. Но сложные навыки приручения наверняка помогли скотоводам лучше понять и себя, и других людей, а главное — вообще осознать важность правильной системы доверия».
Ранее в нашей статье «Культура и образование в дегуманизирующемся мире» среди особенностей нашего интеллекта, определяемых спецификой казахской традиционной культуры, указывалась «способность интуитивного познания иерархически выстроенных находящихся в состоянии сложного равновесия систем», целенарпавленное развитие которой в нашей системе образования могло бы стать эффективным орудием нации в мировой конкуренции. Характерные для казахской культуры особенности интеллекта, семиотической деятельности (о семиотической природе казахской культуры более подробно см. монографии А.Кажгалиулы (Малаева) “Органон орнамента” и “Ою и ой” и и мою диссертацию “Мифоритуальные основания казахской культуры) сохраняются в нашем сознании на генетическом уровне и зачастую проявлются бессознательно.
Если такие, на генетическом уровне определяемые возможности интеллекта, проявляющиеся бессознательно, исследовать специально и в процессе воспитания и образования ребенка развивать их целенаправленно, можно было бы достичь феноменальных результатов. Воспитанный таким образом человек мог бы не просто успешно реализовываться в информационном обществе, не утрачивая свои человеческие качества, но и достиг бы уникальных результатов в науке, в частности в исследованиях искусственного интеллекта.
Известно, что казахи – талантливые музыканты и не менее талантливые математики. Если же осознанно развивать интеллект и интуицию ребенка, сформировать личность, одинаково влюбленную в красоту казахского кюя и в красоту математики, осознающую их как проявления единого вечного духа…
2011