НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ РОМАНЕ
На столе передо мной лежат книги трех казахстанских писателей. Две из них — роман Николая Веревочкина «Зуб мамонта (летопись мертвого города)» и роман Таласбека Асемкулова «Талтус» («Полдень») изданы в 2003 году Фондом Сорос-Казахстан по результатам конкурса «Современный казахстанский роман». Повести Каната Кабдрахманова «Одиночество: дом без стен, душа без дома» и «Трансцедентальное кочевье. Конец пути», изданные под одной обложкой в 1994 году, представляются мне первой частью романа, продолжение которого содержится в его еще неизданной книге 2002 года «Освобождение духа от страха, иллюзий, архаики» и в работе «Степной персонализм», публиковавшейся по главам в альманахе «Рух-Мирас» в 2004-2005 годах.
Многое объединяет эти книги. Схожий возраст их авторов, поколения, следовавшего за шестидесятниками и оставшегося в тени старших собратьев. Писательское мастерство, которое, на мой взгляд – взгляд неискушенного читателя, состоит прежде всего в стремлении честно и интересно, не терроризируя новомодными терминами и формальными экспериментами, рассказать о жизни, о знакомой нам, современникам писателя, общей жизни, а, значит, и о смысле человеческой жизни вообще. Общая тема — судьба современного человека в современном мире. На этом, пожалуй, сходство заканчивается, и начинаются различия, обусловленные не только разным материалом, но и разностью, порою противоположностью позиций писателей. В этих написанных на скорую руку заметках, не претендуя ни на всесторонний охват, ни на объективность, ни на системность, ни на знание литературоведческих тонкостей, хочу сконцентрироваться на различиях, обращающих на себя взгляд культуролога. Это различное видение того, что происходит с казахстанской культурой сегодня, что было в ней ценного, что она утратила и что нашла за последние двадцать лет, что ее ожидает завтра.
Роман Т.Асемкулова посвящен судьбе традиционного искусства в современном мире. Судьба казахской классической традиции показывается через судьбу нашего современника Аджигерея. В романе показано детство и отрочество аульного мальчишки – ученика традиционного музыканта-кюйши. Во втором номере «Рух-Мираса» за 2004 год публиковалась беседа по материалам романа «Тема горя, страдания и печали в казахском традиционном искусстве» (сокращенный перевод на русский язык см. в «Книголюбе», 2004, № 11). Приведу отрывок, имеющий отношение к теме заметок:
«З.Наурзбаева: Аджигерей — наш современник и в то же время он продолжатель духовной Традиции, человек, находящийся на Пути. В связи с этим в его сознании не может не возникнуть противоречие. Дело в том, что традиционная культура предполагает отождествление посвящаемого человека, неофита с Мастером инициации, с ее архетипом, с ее целью. Такое отождествление выражено в индуистском выражении «Тат твам аси» — «Ты есть то», в христианском «Я есть Дверь, Истина и Путь», в суфийском «Ан аль Хакк» — «Я есть Истина». Такое отождествление выражено в средневековой «Хвалебной песне» Казтугана-жырау, в романе М.Магауина «Я». Учитель и дед Аджигерея Сабыт в романе является не просто носителем, творцом, символом традиционного искусства, традиционного мировоззрения, всем своим существованием он утверждает свое
тождество с Традицией. Как его ученик, Аджигерей также должен отождествиться с Традицией. Но насколько это возможно для современного человека? В постмодернизме есть даже концепция о невозможности отождествления современного человека с чем-то вне его. Это вопрос не только об образе героя романа, о проблемах построения художественного полотна, это и вопрос о возможности полноценного существования Традиции в современном мире, о возможности ситуации, когда ее но- ситель является не отшельником, а живет в нашем мире, рядом с нами.
Т.Асемкулов: Опубликованный роман по существу представляет собой первую часть задуманного романа о музыке. Противоречивое положение Аджигерея – хранителя Традиции и нашего современника — это движущая сила всего произведения.
А.Садыкова: Наш современник Аджигерей, испытывающий удары судьбы, в то же время в своей духовной жизни живет как бы в другом забытом мире, в другом времени. Этот другой мир — казахская суть, казахская природа, закрытая для нас, но не исчезнувшая бесследно. Поэтому для нас этот мир кажется знакомым и одновременно незнакомым. Сабыт — посредник между двумя мирами. Внутренний мир Аджигерея он наполнил принесенным им из старого мира богатством чистого искусства, неиспорченного казахского характера. Аджи герей верен этому доверенному ему залогу.
З.Наурзбаева: Фактически Аджигерей живет в двух мирах одновременно. В мифологии есть представление о сокрытом от глаз обычных людей сакральном центре и его хранителях, одновременно защищающих этот центр от непосвященных и являющихся посредниками между мирами. Обычно символом такого центра является образ недоступной горы, дворца, подземелья, острова, где живут бессмертные. В кельтской мифологии есть образ «музыки из-под волн»: люди не способны сопротивляться власти музыки, исполняемой таинственными пришельцами из океана…
Т.Асемкулов: В казахских легендах есть образ Нуртоле, представляющий, по моему мнению, аналог Коркута или еще более древний образ. Согласно легенде, Нуртоле своей музыкой увел в Синее море змей, захвативших Казахскую Орду. Когда море или озеро волнуется, говорят, что это Нуртоле играет под водой, успокаивая змей. В старину, кюйши именем Нуртоле давал свое благословение закончившему обучение ученику в ветреный, буранный день. Если буря — это кюй Нуртоле, то через благословение учителя молодой музыкант погружался в стихию кюя, навеки отождествлялся с искусством кюя».
В романе показано ученичество Аджигерея. В финале посланец забытой традиции покидает дом умершего учителя, в котором прошли его детство и ранняя юность. Покидает, чтобы отправиться в самостоятельную жизнь, войти в контакт с современным миром, передать нам свое послание. Аджигерей слушает рассказы о гражданской и второй мировой войне, о сталинских лагерях, но рассказы эти лишены временной конкретности. Так же как и рассказы о временах Абылай-хана — это лишь рамка для чего-то более значительного. Детский мир Аджигерея практически однороден в этническом плане, персонажей можно разделить условно на две группы: старики — учителя Аджигерея или хотя бы внимающие слушатели и молодежь, которая «за рекой», установив качели, развлекается под гитару и для которой не существует искусства стариков и их рассказов. Конечно, в романе появляются эпизодически аульная советская школа, председатель сельсовета и т.п. «современные» персонажи, но это их появление лишь подчеркивает, насколько Аджигерей далек от нашего времени: для его одноклассников – соседей и товарищей детских игр в десятом классе новостью оказывается искусство Аджигерея.
В отличие от этого, роман Николая Веревочкина, изображающий историю целинного городка от его создания в 60-70-ые годы и до разрухи 90-х насыщен конкретными узнаваемыми деталями времени. В то же время роман, как и все творчество Николая, в хорошем смысле этого слова философский. Более того, он является мифотворческим. Построенный на месте затопленной североказахстанской деревни Ильинки, Степноморск, как неоднократно подчеркивается в тексте, являлся не просто райцентром, но и «центром рая», вобравшим все лучшее от города и деревни — музыкальная школа, самодеятельный театр, авиация и роща вместо центральной площади, рыбалка, грибы, короче говоря, гармония природы и цивилизации. «…В таких городах золотой середины, в отличие от столиц и глухих деревень, зарождалось общество, которого в принципе быть не должно».
Под стать городу его жители: «Это была морозоустойчивая, головастая, выведенная в рискованной зоне порода целинных интеллигентов с телами атлетов и мозолистыми лапами пахарей, представители которого не только профессионально исполняли свои обязанности, что-то изобретали и сочиняли по ночам, но могли правильно забить гвоздь, накосить сено, а между делом занять первое место на районных соревнованиях по десятиборью. В основном это были молодые учителя…» Лучший из них Виктор Николаевич Мамонтов «был тем самым всесторонне и гармонически развитым человеком, скорое появление которого, мало в это веря, предрекали в те годы ученые-обществоведы». Он гениальный учитель физики, лучший комбайнер, заядлый рыбак и спортсмен, гитарист, сочиняющий песни под псевдонимом Морковкин, на велосипеде и байдарке вместе с сыном и друзьями он во время каникул пересекает все республику. Еще он любит «жонглировать мячом, скользить на лыжах, писать маслом космические пейзажи, конструироватъ веломобиль, плести кресло-качалку, просто смотреть в телескоп на ночное небо». Пообещав раз сыну, он, затратив все сбережения, строит парусный корабль, и эта стройка становится центром жизни всего городка на несколько лет.
В городе много и других чудаковатых и весьма симпатичных жителей, влюбленных в свой город, в свое творчество и в жизнь. Короче, как говорит один из них: «Если Бог существует, то он живет в провинции»… Потом пришла перестройка, в результате которой город, казавшийся «надежным, прочно сколоченным ковчегом», стал тонуть, и нужно было спасаться вплавь, а времени учиться плавать уже нет. Большинство активных жителей, среди которых и семья Мамонтовых, живет подобно перелетным птицам: к осени бросает родной город и уезжает на заработки на север, в Россию, а летом возвращается к своим старикам. Город разрушается, его грабят жители соседних деревень и аулов. Старики один за другим умирают, их хоронят могильщики — главные герои романа — Павел Козлов, спившийся бывший строитель города, и его сын Руслан Рабинович (по фамилии мужа матери, воспитавшего его), наркоман, которого мать отправила к отцу, подальше от Алматы и приятелей-наркоманов. Эти двое вместе зимуют в умирающем городе, спасая души друг друга. Руслан влюбляется в дочь Мамонтова, «девочку первого снега», но не считает себя вправе выразить свои чувства. В конце романа оказывается, что вышла ошибка, отец — лишь однофамилец кровного отца, давно уже умершего от алкоголя. Названый отец умирает, Руслан хоронит его и возвращается в Алматы, где мать (по имени Гуля), уехавшая вместе с мужем на его историческую родину, оставила ему однокомнатную квартиру, становится врачом, лечащим наркоманов, чтобы искупить смерть подруги детства, которую он посадил на иглу.
Я пересказываю сюжет романа, потому что хочу анализировать его как миф о судьбе культуры, русской интеллигентской культуры в Казахстане. Сам писатель открывает дорогу к этому, подчеркивая мифологический пласт романа. Затонувшая деревня, память о которой вторгается в сознание ее бывших жителей, рукотворное море и новый город как новый безгрешный мир на месте старой разрушенной цивилизации, город как ковчег, который не спас от потопа, плотина и трещина |в ней, которую сам Николай Веревочкин называет главным героем романа. И маmoht, кости которого потревожили строители города. Гибель города предстает как наказание за это святотатство. Сами жители города, созданный ими мир — это тоже мамонты, тип сильных и нравственных людей-созидателей, которым нет места на этой земле. Мамонтовы уезжают в Россию, кто-то — в Германию или в Израиль, Козлов умирает, художник Гофер вешается и т.д.
Остается Руслан — по существу сирота, потерявший мать и трех своих отцов, метис, «по лицу которого не определишь, где у человека больше родственников — в Азии или Европе». Жизнь Руслана в эпилоге нарочито аскетична: только работа как [искупление вины и минимальная забота о теле, которое должно сохранять работоспособность. Руслан абсолютно не приемлет происходящего вокруг, видя лишь негатив. «Защитившись скорлупой одиночества, он жил в человеческом обществе, как инопланетянин, самоуверенно полагая, что построил свободный мир в одной, отдельно взятой душе». По существу он живет в духовной резервации. Он забыл о своей мечте стать музыкантом, отказался от девушки, которую любит и которая любит его, которая мечтает родить детей, похожих на него. Она уехала в Россию, иногда она снится ему в окружении детей, не его детей. Кстати, в романе дети гибнут слишком часто, это как бы подчеркивает отсутствие будущего у его героев.
Согласно казахской традиции толкования эпоса (см. статью Т.Асемкулова в «Рух-Мирас», №2, 2004), невеста, возлюбленная символизирует цель пути, смысл жизни героя. Руслан отрекся от возлюбленной, запретил себе иметь семью, детей, в символическом плане он лишил себя и культуру, которую он представляет, будущего.
Итак, в романах Т.Асемкулова и Н.Веревочкина изображены два мира высоких культур. Один из них уходит под воду символически («музыка из-под волн»), другой — так же и в буквальном смысле. В романе «Полдень» устами стариков причина видится в изменившемся времени, в колониализме, в революции, в результате которой исчезли элита — ценители искусства. «Наше время закончилось. Одна нога в могиле, другая на земле. Но что будет с народом, который мы оставим? Думаешь, сегодняшняя элита понимает, что такое домбра, песня или кюй. Один акын сказал: «Из черни поднявшиеся тузы». Если такова элита, каков народ, который на нее ориентируется, который ей подражает? Когда-то люди отправлялись в далекое мучительное странствие, чтобы найти домбриста, выучить кюй. Теперь мы как ковчег, оставшийся на вершине Казыгурта. Все наши истории — ложь. Кто поверит в рассказ о былом торжестве, о исчезнувшем народе, под которым, прогибалась черная земля? Если веришь, до сих пор еще никто не искал меня. Ухожу, не дождавшись ученика», — делится своей болью столетний домбрист. Степноморск же обречен не то по воле рока (что-то вроде «зависти богов» к «центру рая», к «обществу, которого в принципе быть не должно»), не то из-за несовершенства тех, кто наверху, не то как возмездие за разгромленную когда-то церковь в Ильинке, за саму затопленную деревню.
Два романа абсолютно самодостаточны, но, когда рассматриваешь их параллельно, не можешь не удивиться тому, что в них изображены два совершенно самостоятельных, несоприкасающихся мира, существующих в одно и то же время на одной и той же земле. В отношении романа «Полдень» это объяснимо, в нем изображен аул в глухой провинции, русские образы возникают только в рассказах о гражданской войне и сталинских лагерях.
Что же касается Степноморска… В его предистории, мифологическом «времени оно» — затонувшая подобно Атлантиде Ильинка. Нынешняя же история начинается со дня строительства города, который творит свои мифы, среди которых первая смерть и место на мосту, названное в честь этой смерти. За пределами этого человеческого общества первопроходцев — мир девственной древней природы. «Но стоило сделать несколько шагов в темноту из этого уютного светового облака, и ты погружался в другое тысячелетие. Там дули древние ветры, влажные от невидимых туманов над реками и озерами без названий. Тревожно шелестела листва, шуршали травы под ногами крадущихся зверей, тоскливо кричали ночные птицы, и стогами свежего сена на фоне молодой луны темнели силуэты мамонтов».
Мысли о «смерти цивилизации» посещают умы степноморской интеллигенции, заставляют думать о прошлом. «Ты знаешь, что люди селились здесь три тысячелетия назад? Что за люди? Откуда пришли? Куда ушли? Никто тебе не скажет. От них даже развалин не осталось. Одни кости». При этом нет и намека на тех людей, что селились здесь до Ильинки, жили рядом с ней. Павла Козлова и его сына тревожит образ мамонта, чьи кости были потревожены во время строительства. Кладбище Ильинки было перенесено в Степноморск, сюда же переехали ее бывшие жители. А что сталось с другими могилами, оставшимися под водами Степного моря? …
В романе присутствуют исключительно положительные казахи: директор совхоза Ибраев, «демиург здешних мест» Есим Байкенович Байкин, целитель Мэлс Мухамеджанов, его сын Булат, одержимый идеей найти «язык Бога», «истинный язык», понятный всему миру, бульдозерист Марат Аубакиров. Но их казахскость, если так можно выразиться, никак не обозначена. Самое значительное, что сказано о казахах, казахской культуре в романе: «Место безлюдное. Километрах в трех ниже по течению аул Берлик, но его жители, к счастью, не уважают рыбалку».
Хотелось бы быть правильно понятой: сказанное не представляет упрека в адрес писателя. Он создал «летопись мертвого города», целинного городка, и если в жизни этого городка в Северном Казахстане казахская культура никак не присутствовала, он и отразил этот факт. При этом нельзя не отметить политкорректность (в лучшем смысле этого слова) Н.Веревочкина при описании развала города, который дружно грабят жители окрестных деревень и аулов, акиматовского «пира во время чумы».
И если я сделала акцент на теме, которую обходит сам писатель, то только потому, что одна интересная деталь, случайное, но знаменательное совпадение заставляет сопоставить его текст с текстами Каната Кабдрахманова — текстами нарочито неполиткорректными, выворачивающими наизнанку то, что принято замалчивать. Эта деталь — эпизодический образ Марата Аубакирова, Маратика (это единственное имя, употребляемое в романе с уменьшительно-ласкательным суффиксом, даже по отношению к детям автор этот суффикс не применяет), почти ровесника Козлова и Мамонтова, самого младшего (если не считать помешавшегося Булата) казахского персонажа.
Бульдозерист, студент-заочник строительного института, заядлый мотоциклист, футболист и барабанщик местного ВИА, вроде бы вполне на своем месте в Степно-морске, жители которого выстраиваются в очередь в больнице, чтобы сдать кровь для него, когда он попадает в аварию. Обращает на себя внимание его непоседливость, граничащая с чем-то болезненным, поданный в шутливой манере конфликт с прорабом Козловым — по существу ключевой эпизод, давший название роману. Именно Марат наткнулся на кости мамонта, он считает, что строительные работы должны быть остановлены: «Лично я по костям рыть не буду….Куда уж нам, Пал Ович! Мы, Пал Ович, пешки… Скажите, Пал Ович, а если бы здесь человеческая могила была?» А в ответ изощренный мат и приказ-упрек: «Так что, Аубакиров, забастовку не устраивай, а садись за рычаги и выполняй пятилетку в три года…» и далее, И примирительное: «Но, но… Что значит пешки?.. От тебя сейчас зависит процветание целого края. По этому мосту трубы для самого протяженного в мире водопровода повезут, комбайны, шифер, понимаешь, кирпич… — Унитазы, — грустно продолжил перечень Марат. — При чем здесь унитазы?- Верная примета цивилизации. Трудно без них представить будущее».
За этим столкновением вряд ли просто романтизм молодого человека или известная любовь казахов к истории. Особенно если вспомнить, что по свидетельству И.Кастанье крестьяне-переселенцы разбирали на кирпич для печей старинные казахские мазары, а во время «освоения целины» казахские кладбища распахивались приезжими трактористами, невзирая на сопротивление местных стариков. В тот же день, возвращаясь с работы, Марат разбивается на своем мотоцикле. В 90-ые годы Марат, как и Мамонтовы, уезжает на заработки в Россию, и так же как они, приезжая на лето, вынужден регистрироваться в местном паспортном столе.
В детской повести Н.Веревочкина «Жил-был красивый зверь», изданной в его сборнике «Древоград» 1994 года, присутствуют многие мотивы будущего романа: образ мамонта, которого мечтают найти мальчишки, отправившиеся в странствие по реке на лодке, мальчик, не знающий своего отца и имя Марат. Образ этого, единственного в повести казахского персонажа таков: близорукий и рассеянный, страдающий энурезом и терпящий всеобщие насмешки, вынужденный подчиняться приятелю и совершать низкие поступки, за которые он сам себя считает предателем и провокатором. «Марат привык к тому, что рано или поздно его называли Маратиком и начинали им командовать». В конце повести, когда он растерянный, пытается совершить смелый жест по собственному решению, его ждет нелепая смерть.
В большинстве произведений Каната Кабдрахманова главный герой, протагонист автора (герой настолько личен, что, комментируя в «Освобождении духа…» один из ранних своих рассказов, Канат делает замечание в том смысле, что это выдуманная история, в его собственной жизни такого эпизода не было) обозначен как М. Это «М.» логичнее всего прочитать как «маргинал», потому что все творчество Каната посвящено тому, чтобы выговорить, осмыслить и преодолеть маргинализм, волею времени ставший судьбой казахов. Судьбой всеобщей, ведь если традиционная культура народа исчезает, то все его представители оказываются на маргиналиях, вне зависимости, выросли они на «асфальте» или в ауле. Для стариков — учителей Аджигерея их собственные дети и внуки, обучающиеся в казахской школе, работающие здесь же, в ауле, во многом чужие.
Н. Веревочкин и К.Кабдрахманов — не только ровесники, люди одного поколения, но, по всей видимости, земляки. По крайней мере, в центре их творчества — Северный Казахстан. В моем сознании творчество Николая и Каната настолько связаны, представляются как единый текст, что М. воспринимается как Марат — одно из наиболее распространенных советских неказахских имен у казахов. М. родился и вырос в русской среде, в русском селе на целине. Первый этап его жизни — стремление стать таким как все, все вокруг. Потом приходит понимание, что это невозможно. «Они всегда были совсем другими людьми, эти русские, и Саше-Сапару хотелось, чтоб кто-нибудь, какая-нибудь сила, чъя-нибудь воля, разум, управляющий миром, взял бы топор и вырубил из него Сапара, потому что сделать это сам он был не в силах, и пусть бы он стал инвалидом, одноногим и одноруким, пусть бы с утра до ночи сидел пьяным на крыльце магазина, пусть бы входящие по-свойски здоровались с ним: здоров, Саня! — и он был бы пьяным, порубленным, но счастливым. Но и этому действию произойти было не суждено…, и он шел все мимо, мимо, предощущая в себе с тоской судьбу всегда проходить мимо». В «Зубе мамонта» настоящий отец Руслана Сашка Козлов стоял у двери магазина и, протягивая входящим брючный ремень, говорил: «Займи или помоги повеситься». Саня-Сапар и этой возможности по свойски говорить «ты» был бы рад.
Пытаясь стать такими, как все, М. и Саша-Сапар обречены желать русских девушек, что еще больше запутывает их положение. «М был взбешен, когда узнал, что ребенку дали не его фамилию. Но теперь был далее рад, что ребенок станет полноценным русским, что от отца у него будет только желтоватая кожа да жестковатые волосы. И ничего больше. Сын обречен был стать русским. Потому что М., несмотря на свое азиатское обличье, не был казахом. Кем он был — этого не знал никто». В «Зубе мамонта» дети Маратика Аубакирова не упоминаются. Похоже, их просто нет. Да и Руслан, ставший «полноценным русским», так и не позволил себе иметь детей от любимой. Сына М. в «Трансцедентальном кочевье» зовут даже и не Руслан, а Макс, Максим, он тоже все еще М…
Так многое, в эпизодах и деталях перекликается у К.Кабдрахманова и Н.Веревочкина, потому что они видят и описывают одно и то же, но при этом их отношение к описываемому совершенно различно. Даже природа. Герои Н. Вере-вочкина живут в полной гармонии с миром природы, наслаждаются ею. Отсюда прекрасные пейзажи, описания рыбалок, походов по грибы-ягоды. У К.Кабдрахманова та же самая, родная природа лишь подчеркивает отчужденность героя, который на природе еще более ощущает себя бомжем. «Одиночество, разъедавшее душу, в такт минуты казалось М. выражением его совершенной человеческой ничтожности, поэтому хотелось уйти, превратиться в запах травы, несомый ветром, в пенный гребешок волны, влекомой течением. Но невозможно было сровняться с природой во внутренней уравновешанности и молчаливом спокойствии… Чего-то недоставало в сердце М., крохотного, быть может, и незаметного постороннему взгляду, но незаменимого, того, что превращает окружающую человека природу в родину…»
Подобная прекрасному сну детства деревня Ильинка в «Одиночестве…» Каната превращается в раздираемый тайно зреющим конфликтом поселок: «Очень много людей здесь счастливо родилось и спокойно умерло, думалось Владимиру Ивановичу. Но кто из них мог знать, что когда-нибудь настанет день, и Покровки, Алексеевки, Михайловки превратятся в Алгабасы, Жаланаши, Баканасы…» Мамонтов, в преддверии отъезда на Север сочиняющий под гитару грустную песню о «чужой тамож’не на границе родного села», в «Одиночестве…» превращается в директора поселковой школы, которого мужики выдвигают вперед, чтобы выразить свой протест против переименования села и который рассуждает: «Культура… Она расслабляет волю… Но существующая культура — это всего лишь то, что мы перестали бить…», а вслух произносит: «Наши деды приехали сюда еще в прошлом веке. Ваших в то время не было на сто километров вокруг».
Протагонист Каната Кабдрахманова все время тянется за Мамонтовым – идеальным героем Николая Веревочкина и все время обречен проигрывать ему: «Ища снадобья, которое раскроет мне глаза, я учился музыке, фехтованию, авиамоделизму, изучал двигатели, собрал из кусков железа велосипед — и все в поисках сущности человеческого стиля и рука об руку со своими товарищами, получившими жизненные стили ни за что, даром. И все у меня получалось хуже, чем у приятелей. Я кривее чертил. Работая с инструментами, то и дело ранил свои руки, мои самолеты бесконечно разбивались, я проигрывал все бои, на фортепиано играл, выпадая из любого ритма. Я чувствовал в себе неполноценность, не \полную пригодность к тем делам, к которым прикасался.. .Я оставался во многом родовым человеком, и дух материальной культуры XX века очень долго пребывал сущностно чуждым, мне приходилось предпринимать тройные, по сравнению с моими русскими приятелями, усилия, что- бы в чем-то преуспеть».
В этих строках не следует искать подтверждения личной «безрукости» автора, так же как и объективной истины о национальной «безрукости» казахов. Вообще, попытки Каната анализировать казахскую культуру (эпос, орнамент и пр.) могут вызвать лишь гнев у «правоверного» казаха и недоуменную усмешку у специалиста, настолько они субъективны и неумелы. Например, в «Освобождении…» Канат пытается вывести некое представление о казахской традиционной этике на основе эпоса. Во-первых, такие попытки столь же неуместны, сколь, например, утверждения о том, что воровство в крови у англичан, потому что в сказке «Джек и бобовый стебель» любимый многими поколениями Джек добывает счастье, украв у великана волшебные предметы. Во-вторых, очевидная ошибка Каната еще и в том, что он пытается судить об отношении персонажей эпоса к происходящим событиям по вольному переложению на русский язык.
В другом месте Канат говорит о том, что казахам невозможно работать с железом с таким чутьем и искусством, как русским, потому что у них нет этого в истории, в крови, культура железа не была освоена ими самостоятельно. Конечно, «вольному сыну степей» и его потомку не по себе делается на заводе, среди грохота и вони, но история утверждает, что железное дело впервые в Евразии освоено было на Алтае и именно тюрками. В «Полдне» Т.Асемкуловым описывается традиционное искусство казахских кузнецов, и по горькой иронии судьбы центр этого искусства в Казахской Орде — мельницы для измельчения руды, главные запасы особым образом обработанного железа и кузни — находились на родине Каната. В романе дед и внук горюют о судьбе аульного кузнеца Ахметжана: «Ты прав. Ахметжан и есть Жумагул (герой легенды и цикла кюев «Деревянный конь» кюйши XVIII века Байжигита — З.Н.). Белый царь забрал у него все. Отрезал язык. Лишил искусства. В конце концов рассек грудь и извлек сердце. — А деревянный конь? Что такое деревянный конь? – Деревянный конь — это удивительное искусство Ахметжана, которое никому не досталось, которое ушло, улетело вместе с ним, ни к кому не опустилось».
Возможно, буквально пару поколений назад кто-то из предков Каната вручную доводил, выравнивал ствол российского заводского ружья, но откуда знать это Канату, ведь казахским кузнецам, тем, кто остался жив после бойни 20-х годов, было запрещено работать с оружием: месить «возвращенный в младенческое состояние», пластичный как золото металл, делать сабли, которыми можно рубить железо и которые можно обернуть вокруг талии вместо пояса, как это описывается в романе Т.Асемкулова… Что уж там говорить об искусстве фехтования или борьбы у казахов (как истинный интеллигент, Канат не раз с восхищением описывает мощную и честную борьбу русских силачей, «крестьянских поэтов» в коридоре общежития Литинститута, так что возникает впечатление, что и это не по силам казахам, исключительный талант которых к единоборствам давно уже признан в спортивном мире).
Еще раз повторюсь, тот, кто захочет узнать о казахской традиционной, или, как говорит Канат, «родовой» культуре через его творчество, тот рискует быть введенным в заблуждение. Несмотря на все желание писателя быть объективным исследователем, это не его стезя, и не только потому, что не хватает знаний (знаний всякого рода – и языка, и науки), но прежде всего из-за направленности его таланта. Он писатель, выражающий, прежде всего, свое собственное видение мира. Но это видение возникло не на пустом месте: в свое время, также как и Канат, в поисках истины все мы обращались к «Словам назидания» Абая и к «Пути Абая» М.Ауэзова, и вместо поддержки и оправдания получали непомерную порцию горького яда, не понимая, что тексты эти порождены особой ситуацией, что правдивые сами по себе, они отражают лишь часть истины, а другую ее часть нам неоткуда было узнать, а потому истина превращалась в ложь, лекарство — в яд.
Как-то в личной беседе, когда я пыталась, как специалист по мифологии и фольклору, объяснить Канату, насколько неправомерна его интерпретация эпоса, он ответил приблизительно следующее: «Возможно, Вы правы. Но это мало что меняет в моей позиции, потому что я описываю то, какое представление о нашем прошлом сложилось у меня, у русскоязычных казахов моего поколения благодаря той литературе, что была нам доступна». Коротко говоря, «у казахов выдернули из-под ног родину», и все творчество Каната посвящено душевной катастрофе человека, народа, оставшегося без родины на родной земле.
В качестве причины этой катастрофы Канат называет и колониализм, и изменение материальной культуры в XX веке, и голод. Его повесть «Трансцедентальное кочевье. Конец пути» в художественной форме рассказывает о том же, что и статья Т.Асемкулова «Голод и война». М. одновременно живет в двух временных системах. В одной он является свидетелем того, как вымирает от голода степь, как голод то ли изменяет нрав людей, то ли открывает нечто, дотоле скрытое. В другой — он наш современник, мать которого умирает от застарелой болезни сердца и от безразличия врачей. В одной — спасающиеся от голода мужчина и женщина с маленькой девочкой на руках — его будущей матерью — подсаживаются к его ночному костру. Затем они уходят в ночь, чтобы вскоре умереть, потому что, несмотря на уговоры жены, мужчина – его будущий дед так и не смог во имя спасения семьи переступить через нравственный порог, убить уснувшего чужака. Малышка, подобранная русским крестьянином, вырастет «в людях», чужая родичам. Та ночь обернется для нее болезнью сердца, которая приведет ее к смерти.
Выполняя просьбу матери похоронить ее «по обычаю», М. обращается к родственнику. «Когда-то люди, подобные старику Буркутбаю, достигли определенных постов. Они достигли их благодаря тому, что власть приближала к себе тех, кто хоть немного кумекал по-русски. Словом, русский язык кормил старика Бур-кутбая и взращивал. Но теперь старик Буркутбай слыл мудрецом, отстаивающим будущность древнего языка степи». Обряд похорон только подчеркнул отчужденность, доходящую до скрытой вражды, между М. и его родичами. «С самого рождения мы были обречены на одиночество. А оно иногда вызывает протест… К своим нам больше никогда не вернуться. Чужие нас никогда не примут». После похорон М. дописывает последние строки письма своему маленькому сыну Максиму, растущему под русской фамилией в русском доме, и стреляется. Получивший после обязательных процедур труп Буркутбай вывозит тело племянника за город и сбрасывает в омут со словами: «Недостоин этот предатель лежать в казахской земле, выбросить его вон».
Таков, по Канату, для казахов нравственный итог советской эпохи, которую он называет псевдоколлективистской, ложно-родовой и ложно-общинной. Поэтому неудивительна его ненависть к советскому обществу, советизму, который он характеризует как «тазик баланды». Понятно, что это очень далеко от «общества, которого в принципе быть не должно» Н.Веревочкина. И герой Николая по поводу «поэтики тазика с баландой» недоумевал бы: «…если время, в котором жили эти старики, было таким ужасным, откуда же появилось столько хороших людей!»
Наверное, объяснения этой разницы позиций двух писателей-ровесников, описывающих один и тот же мир, получивших одно и то же образование, можно поискать в противоположном понимании ими национального вопроса.
В Степноморске в гармонии живут и коренные жители Ильинки, и казахи, и осевшие в полюбившемся городке странники, один из которых с достоинством представляется: «Гофер — существо без родословной. Национальность — человек».
В репликах, которыми обмениваются I Руслан и Яков Грач: «Каждый настоящий русский наполовину татарин, наполовину еврей…- Настоящий русский вообще национальности не имеет. Во мне столько наций и религий намешано, что впору самому себе войну объявлять», содержится то же понимание национального вопроса, что у Л.Аннинского в книге «Русские плюс»: «Сможем русифицировать сейчас чеченцев, лучших русских не будет… У русских есть вот этот плюс — способность всех принять, всеотзывчивостъ. Это и позволяло нам склеивать из лоскутков великие державы …Русифицировать — это ведь не ассимилировать, не «стереть». Что мешает мне, русскому человеку по языку и культуре, помнить, что один мой прадед был раввином, а другой — донским казаком…?»
Для Каната «просто человек» — это фикция, ложь, омрачившая большую часть его сознательной жизни. «Это был мощный, большой человек. По национальности он был русским… Однажды, без всякого на то повода, К. (? Козлов Н.Веревочкина — З.Н.) завел разговор о межнациональных отношениях, а потом, итожа разговор, разъяснил нам свою жизненную позицию: «Мне все равно, к какой нации относится мой напарник, лишь бы человек был хороший!»
К. в это верил… Идея К. показалась мне исчерпывающе разумной, я очень долго в нее верил …Довольно рано я стал называть себя космополитом. Был ли я настоящим космополитом — другой вопрос, но то, что К. и подобные ему люди и были настоящими, живущими совсем рядом, космополитами, мне становится понятным только теперь.
Они отрицали всякую идею национального своеобразия. Возможно, они допустили бы, чтоб нерусские носили свои тюбетейки, но они не позволили бы, так думается, быть «нерусскими»… Для писателя и русские — не русские, потому что в них нет «этики национального духа», что уж говорить об М., о Маратике, Булате и других, которых «русифицировали», но «не ассимилировали». Получается, корень проблемы, взорвавшей Советский Союз, в разнице равных между собой советских людей, одни из которых русские люди с русскими корнями, другие — русские люди без родословной, а третьи — русские люди, которым позволено помнить о своих нерусских прадедах? (Не наступаем ли и мы сейчас на те же грабли?)
Завершая эти затянувшиеся заметки, целью которых было показать очевидные параллели и не менее очевидные «перпендикуляры» трех казахстанских романов о смысле человеческой жизни и, следовательно, о культуре, отмечу еще одно. М. через отчуждение, ненависть, одиночество и боль нашел свой путь к созиданию по-слестепной культуры: «…Отчаяние такого сорта есть неотторжимая составная души всех людей, гонимых судьбой по духовному бездорожью, и более, чем мужество, им, как и мне, необходимо понимание, что и у такой судьбы есть свой сокровенный путь, а у пути есть смысл и цель». Но остается вопросом, выйдет ли Руслан из своего добровольного духовного заточения и, самое главное, найдет ли свой путь в современном мире Аджигерей? Потому что без этого послестепная культура невозможна, а послестепной человек навсегда обречен чувствовать себя одиноким «Я» перед громадой Шартрского собора. «Я», не имеющим ни корней, ни истории. Точнее, «Я» настолько привыкшим к своему одиночеству, к своей боли, что ему уже не нужны ни корни, ни история…
2005
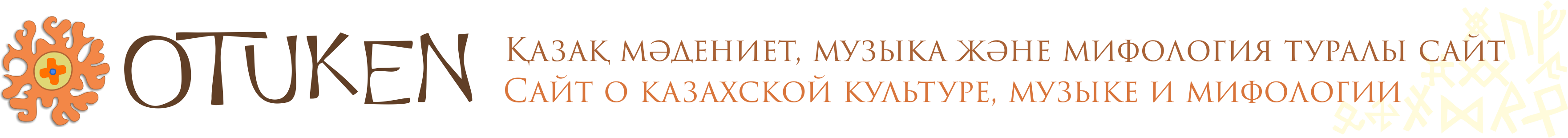
Спасибо, написано 12 лет назадб, но все еще на злобу дня. И сегодня все еще проблема стоит национальной и личной самоидентификации как русскоязычных казахов. так и казахов,говорящих свободно на родном языке. в моей семье есть по моему представители всех типов казахов, которых вы описали в своей статье по литературным образам трех писателей. И все еще процесс идентификации бурлит.