
Зира НАУРЗБАЕВА
Вступление
Рев, наполненный гневом и яростью, перешел в долгий тоскливый вой. Ужас мой быстро сменился недоумением, потому что этот крик прозвучал летним солнечным днем на территории Академгородка среди новеньких, отделанных розовым ракушечником зданий научных институтов и домов для их сотрудников.
Я довольно часто приезжала сюда после уроков и на каникулах, чтобы помочь маме заполнить десять квадратных метров розово-оранжевой миллиметровки на стене, продолжить полсотни изломанных линий из сливающихся карандашных точек. Муторная, требующая не только дотошности, но и постоянного напряжения зрения канитель была уже не под силу маме, работавшей на четверть ставки. Ответственность и гордость мешали ей отказаться от адской нагрузки, а начальство, выпестованные ею вчерашние выпускники, старались не замечать этого. Поэтому-то я оказалась в институте и из раскрытого окна услышала крик…
Я смотрела на маму. Но она, против своего обыкновения, не торопилась ничего объяснять. Как-то виновато она смотрела вниз и молчала. Молчали и ее соседки по кабинету. Крик повторился. Теперь я уже отчетливо поняла, что кричит человек. Мама настолько сжалась, что я не смогла задать свой вопрос вслух. Я продолжала работать над графиком, мысленно перебирая возможные объяснения. Крик горя? Вопли алкоголика в белой горячке? Семейная ссора, скандал, побои? Сумасшедший?..
Вечером, когда по дороге домой мы остались вдвоем, мама, наконец, нашла в себе силы объяснить. Оказалось, это кричала казахская бабушка из жилого дома напротив.
Одна из сотрудниц Института биологии должна была получить квартиру и, чтобы квартира была побольше, прописала к себе проживавшую в ауле маму. Так многие делали тогда. Для надежности – вдруг комиссия нагрянет или кто донесет – она уговорила старушку какое-то время пожить с ней в Алма-Ате. Старуха торопилась домой – скучно ей в городе, непривычно, дочь отговорила: для подстраховки надо бы пожить еще какое-то время с ней, кто-то из соседей может заявление написать, тогда квартиру отберут. Потерпев еще сколько-то, старуха собралась домой окончательно. Но оказалось, что ехать ей некуда. Дочери в новой квартире хотелось новой обстановки, поэтому она втихую продала родительский дом и на вырученные деньги купила мебель. Ничего страшного: чем старухе куковать одной в ауле, топить печь и таскать воду, пусть поживет с дочерью в городской квартире со всеми удобствами.
Что было делать? Старуха согласилась. Академгородок тогда находился в пустынном зеленом массиве. Ниже – Ботанический сад, справа – пустующая территория КазГУграда. Привыкшая целый день двигаться, быть ближе к земле, старуха начала, было, выходить на прогулки. Но тут начались проблемы. Она, всю жизнь прожив на одном месте, в маленьком степном ауле, на старости никак не могла научиться ориентироваться на новой, незнакомой местности, среди густых зарослей деревьев и неразличимых, на ее взгляд, многоэтажных домов. Она несколько раз заблудилась так, что искали ее всем домом, чуть ли не милицию вызывали. Пришлось ограничить прогулки одним двором.
Новая беда: в отдаленном ауле, где почти не было приезжих, она никогда в жизни не запирала дом на замок, а потому и в городе то забывала закрыть дверь на ключ, то оставляла его где-нибудь. Дочь совсем перестала давать ей ключи. Когда дочь утром отправлялась на работу, мать выходила вместе с ней во двор, сидела на скамеечке, разговаривала с прохожими, и так до возвращения дочери с работы. Соседи, жалея старуху, приглашали ее к себе попить чаю. Но дочери не нравилось, что мать, как бездомная побирушка, ходит по соседям, и, уходя на работу, она стала закрывать ее дома одну.
Вначале бабушка еще выбиралась во двор по вечерам, но смена климата и привычного образа жизни сказались на ее здоровье, она все больше слабела. Подниматься на пятый этаж становилось все труднее. С наступлением зимы она перестала выходить из дома. Одиночное заключение в каменной коробке привело к помутнению сознания. Теперь она время от времени выбирается на балкон, смотрит на горы вдали, на сады вокруг, на спешащих по своим делам людей внизу. И кричит…
В Алма-Ате 60-70-х старшее поколение в казахских семьях было представлено почти всегда лишь аже или апа – военными вдовами. Если шал не погиб во время войны, то старики обычно вместе доживали свой век в ауле. А вот овдовевших пожилых женщин их дети всеми силами пытались уговорить переехать в город – нянчить внуков, прежде всего. Была, конечно, и любовь, и стремление избежать укоров «бросили старуху одну».
Лишь теперь понимаю, как трудно было нашим аже прижиться в каменном чужом городе, где царили совсем другие нравы, где за двухкилограммовый, завернутый в целлофан, сверток костей надо было отстоять в душной очереди несколько часов, где внуки часто не знали ни слова на родном языке.
Сам городской быт был для них не просто непривычен, он вступал в противоречие с традиционным воспитанием и чувством благопристойности. Земляк моей мамы, подполковник КГБ, когда его навещала мать, был вынужден в центре города рано утром и поздно вечером выводить старушку в кусты, потому что мысль справлять физиологические потребности в доме ее шокировала. «Не дай Бог, сын, невестка или внуки услышат журчанье!» Комичная, вроде бы, ситуация, частный факт, но ведь сшибка менталитетов, на самом деле.
Американский психолог Эрик Эриксон пишет, что у индейских девочек, воспитывавшихся в интернатах, часто начиналась депрессия из-за разного понимания чистоты в родной семье и в интернате. Для индейских матерей была важна ритуальная чистота дочерей, а для белых воспитателей – санитарно-гигиенические правила. В результате девочки-подростки чувствовали себя грязными и там, и тут. К тому же индейцы считали, что экскременты должны подвергнуться очищающему воздействию солнечных лучей и ветра, ужасались обычаю белых скапливать и гноить нечистоты в одном месте. Что думали белые по поводу индейцев, нам – горожанам – ясно без слов. Но первые перепланировки в городских квартирах казахов, когда это стало возможно во время перестройки, касались именно туалета. Дверь туалета, выходившую в один коридорчик с кухней, старались переставить, вывести в прихожую. В современно спланированных квартирах вход в гостевой санузел часто попадает в поле зрения сидящих за столом в объединенной с холлом большой комнате, что по-прежнему смущает тех, кто сохранил рудименты традиционного воспитания.
Мать подполковника так и не смогла привыкнуть к городу: приезжала, впадала в депрессию, звонила нашей бабушке по маме – нашей Әже, просила приехать в гости. Әже пыталась «вправить мозги» землячке: да, здесь тошно, но той с байгой для тебя я организовать не смогу, приди в себя, сын днем и ночью на работе, невестка в больнице, подумай о внуках, давай хоть в магазин за продуктами сходим. Но подругу магазинная толчея и необходимость объясняться по-русски с хамовитыми продавщицами страшно пугали. Она уехала, наша Әже прижилась в Алматы. Но чего ей это стоило, знала лишь она сама.

В конце 80-х мы как-то смотрели с ней по ТВ передачу о турецком сельском празднике со скачками и прочим. Реакция Әже была совершенно неожиданной для меня. Она со вздохом подытожила увиденное: счастливые, на равнине живут… А ведь она, когда была помоложе, уступив напору зятя – общественного инструктора по туризму, пару раз вместе с нами сходила в горный поход. Но торжественная красота Алатау, как оказалось, совсем не воодушевляла степнячку.
Перебравшиеся в город к взрослым детям старые вдовы были уязвимы социально и психологически, часто оказываясь заложниками вдруг ожесточившихся от городской жизни детей. Гордость мешала им вернуться к родне в аул, публично признать, что с их детьми что-то не так.Лишенные привычного образа жизни и родственного коллектива, казахские бабушки пытались воссоздать свой мир в городе. Дети и внуки – это прекрасно, но казахи сверстников называют «своим народом», последующие же поколения – это «племя младое, незнакомое», поселившееся на опустевшем стойбище. Переживший ровесников старик – это человек, случайно отставший от своего кочевья и потому гостящий у новых поселенцев. Таков постоянный образ традиционной культуры.
В детстве и юности Әже была для меня главным человеком, а потому отношение к бабушкам было для меня чуть ли не основным критерием оценки людей. Я видела, как избалованный городской подросток, доставлявший немало проблем своим родителям, привычно садился на корточки, чтобы обуть свою ажеку, на спине выносил ее во двор, звонил в двери ее подруг, а потом заносил обратно на какой-нибудь четвертый этаж, и так – каждый день. Я видела, как пристыжено возвращается наша Әже после попытки выразить соболезнования в связи со смертью подруги ее семье, потому что семья никакого горя не испытывает и в соболезнованиях не нуждается. Но больше всего были интересны мне сами бабушки, каждая из них.
Одна моя старшая подруга недавно сказала мне: ты во многом еще ребенок, и в тоже время ты намного старше меня, иногда ты мне кажешься такой древней, старше моей мамы. Наверное, это действительно так. Еще подростком мне было интереснее с малышами или девяностолетними старухами, чем со своими сверстниками. Но зато я могу кое-что рассказать о мире, уже ушедшем в небытие. Сейчас таких казахских аже почти не осталось.
Я назвала этот цикл зарисовок «Бескемпир» («Пять старух»), потому что это распространенное в казахском фольклоре и топонимике понятие. Дело в том, что (обоснованная уже очень давно, не то академиком А. Маргуланом, не то академиком А. Коныратбаевым) этимология казахского слова «кемпір» – «кам пір», где слово «кам» означает «шаман», а «пір» – это «духовный наставник, сверхъестественный покровитель» и т.д. Предполагается, что изначально слово «кемпір» означало покровителей-владык природных стихий и явлений в облике пожилой женщины. А уж потом смысл его профанизировался, стал таким, какой мы знаем.
Если у индоевропейцев, например, громовержец – это бог-мужчина Зевс или Тор, то у тюрков это «кемпір», «бабушка-громовница», как принято сейчас формулировать. Такова особенность прототюркской и тюркской мифологии, матриархальный характер которой прекрасно показал С. Кондыбай. Тюрки – охотники, скотоводы и воины – поклонялись своим матерям. Таким образом, Бескемпир – это название некоего древнего пантеона божеств.
Рудиментом этой мифологии является обычай проносить новорожденного из семьи, где дети часто умирают, между ног трех или пяти старух. Сейчас этот обычай объясняют стремлением запутать смерть. Изначальный смысл – в том, что ребенок рождается от «владычиц стихий», наделяется их силой. Отсюда фамилия первого казахского олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова.
Казахские аже не чувствовали себя богинями или хотя бы байбише-матриархами в Алма-Ате, но судьбы их под конец их дней оказались вплетены в огромное полотнище городской жизни. Иногда мне становится страшно, что в суете они будут окончательно забыты, и я повторяю их имена, точнее, прозвища, так как они редко называли друг друга по именам – отголосок древнего табу. Астархан шеше, Сары кемпір, Өскемен кемпір, Офицердің кемпірі… Других – ушедших раньше нашей Әже – я помню плохо, при жизни они были для меня лишь ее подругами. Те же, кто пережил Әже, кого я приглашала на ее поминки, своим уважением к нашему горю и своим теплом помогли пройти через самый темный период моей жизни. Когда ушла последняя из них – шустрая и хвастливая Офицердің кемпірі (я даже успела узнать ее настоящее имя – Нурганым), – дверь в этот мир для меня закрылась…
Няня-апа
Няня-апа – так мы звали старушку, которая нянчилась со мною с трех месяцев (тогда декретный отпуск по рождению ребенка был три месяца) и до трех лет, пока в детском саду не подошла моя очередь. Казахских бабушек в Алматы тогда было очень мало, и сотрудники Института математики Академии наук передавали ее друг другу «по эстафете».
Настоящего имени Няня-апа я не знаю. У ней был частный домик возле кинотеатра «Мир». С тех пор, как я начала себя осознавать, помню, как мы с ней ходим по крохотному палисаднику, собираем сломавшиеся ветки деревьев на растопку самовара. Когда я была маленькой, по запаху чая могла определить – на вишневых или яблоневых ветках вскипятили самовар. Чай мы пили за низеньким круглым столиком, сидя на очень странных табуретках – как бы огромных деревянных катушках для ниток с отверстием посередине. Разумеется, табуретки были прикрыты цветастыми корпешками, но я любила повалить катушки на бок и катать их туда-сюда. Наверное, это были мои самые любимые игрушки.
Происхождение этих табуреток было настоящей загадкой для меня много лет, таких я больше нигде не видела. В школьные годы нас водили на экскурсию на АХБК (Алматинский хлопчатобумажный комбинат). На станках там крутились огромные бобины для ниток, и я подумала, что раньше, возможно, вместо бобин использовались гигантские катушки, они-то и попали каким-то образом к Няня-апа.
Еще помню вату, которую клали между стеклами окон зимой, а к Новому году украшали вырезанными из чайной фольги снежинками, какими-то елочными игрушками. Как эта вата и игрушки попадали в пространство между стеклами – непонятно, ведь это были нераскрывающиеся «стеклопакеты», как в аульных домах.
Итак, мы часами пили чай с мелкими твердыми баурсаками, сластями, Няня-апа рассказывала мне всякие истории, мало интересуясь, доступны ли они моему пониманию. Потом прочла у суфия Инайат-хана, что лучший способ воспитывать детей – рассказывать им «на вырост» легенды и жизненные истории.
Смуглые, морщинистые руки Няня-апа были унизаны серебряными браслетами, а на каждом пальце было по два-три перстня или кольца. Я рассматривала их, когда Няня-апа держала свою кесешку, а после чая любила крутить кольца у ней на пальцах. Она показывала мне: «Видишь, кольца не снимаются, вросли в мясо. Когда я умру, мясо с костей стечет, вот тогда и кольца снимутся. Вот это кольцо я завещаю тебе». Эти слова меня страшно пугали. Тогда или уже позже я все представляла, как в могиле, в гробу, оголяются кости, как могилу вскрывают и с руки скелета снимают для меня кольцо.
Как-то раз моя двоюродная сестра-студентка сняла и оставила у нас на раковине кольцо, оно было велико мне даже для большого пальца, но я надела его, согнула палец, чтобы кольцо не соскальзывало, и ушла во двор играть. Играла, совершенно забыв о кольце, вдруг встревожилась «Потеряла!», но оно, к счастью, было на пальце. Но вот палец… Он страшно опух и посинел, кольцо было снять невозможно, надо было признаваться взрослым. А еще пугала картина: я лежу в гробу, косточки белеют, и кольцо, наконец, снимают с моей руки… Сестра, намылив хорошенько мой палец, сумела выкрутить его из кольца, но теперь я не ношу даже обручального, сформировалась своеобразная фобия.
Няня-апа продолжала общаться с нами и после того, как я пошла в детский сад. Переехавшая к этому времени в Алматы моя Әже очень уважала старшую по возрасту Няня-апа. Она сказала мне как-то, что Няня-апа – местная, алматинская, что у ней есть арқа, т.е. аруах, поэтому люди постоянно увозят ее, когда нужна помощь. Эти слова я тогда не очень поняла. Знала лишь, что сын Няня-апа – шофер – сильно пьет и стал злым, а потому она больше не забирает меня к себе в гости.
Когда мне исполнилось одиннадцать, мы переехали с Джандосова в район КазГУграда. Вскоре домик Няня-апа снесли, ей с сыном дали квартиру в новом микрорайоне Таугуль. Приезжала она все реже и реже, иногда раз в три-четыре года. Причем, поездки ее были весьма своеобразны. Она выходила на остановку возле дома, садилась на первый попавшийся автобус, сходила на понравившейся остановке и спрашивала у прохожих меня. Приходя к нам в дом, она возмущалась: «Что за дети пошли глупые, ничего не знают. Я спрашиваю, где Зира живет, а они плечами пожимают. Так и шла по улицам. Наконец один еле вспомнил: вроде старшую сестру Алтая так зовут. Как можно тебя не знать, а? Почему они тебя не знают?»
После таких вопросов я чувствовала какую-то вину, казалось, я не оправдала надежд своей няни, не стала общегородской знаменитосью, которую знает каждая собака. Видимо, она так и не осознала, что город сильно вырос со времен ее детства, а может, просто никогда не выбиралась из своего района. Теперь я понимаю, что, возможно, выезжала она и чаще, но поиски не всегда приводили к цели. И еще думаю, что внуки и воспитанники Няня-апа росли на рассказах обо мне и поголовно меня ненавидели.
Последние ее визиты были странными. То она приходила в стареньком мужском пиджаке и невнятно объясняла, что дети заперли ее дома, спрятали ее одежду, она едва сбежала. Однажды пришла страшно исхудавшая и совсем почерневшая, попросила холодную воду в банке поставить в морозильник и пила ее, сказав, что еда и чай не идут. Кстати, пришла без колец и перстней, видимо, смогла снять. Я думала, что это наша последняя встреча. Но она пришла еще года через два, поправившаяся и веселая, заняла у Әже деньги на двух гусей, чтобы угостить нас. Почему именно гусей и почему она, наконец, решила нас пригласить к себе домой, никто не понял.
Я пошла провожать ее. Было уже начало 90-х, по Тимирязева сплошным, как тогда нам казалось, потоком шли машины. Няня-апа и не подумала идти к светофору, не оглядываясь, рванула прямо через улицу. Я держала ее под локоть, пытаясь лавировать среди машин. На голове у нее было три теплых платка, уши были завязаны девятью слоями толстой шерсти, и она мало что слышала. Добравшись до тротуара, я спросила: «Няня-апа, Вы машин не боитесь?». «Это они меня боятся», – ответила она и принялась воспитывать: «Замуж не собралась? И правильно, все подлецы. Ты должна стать большим начальником»… Подошел автобус, и она уехала.
Дома я пересказала Әже напутствие моей няни, и Әже, мечтавшая о правнуках, в первый раз позволила себе высказаться: «Омаразмевшая старуха! Что значит – все подлецы? Вот пригласит на своих гусей, я ей все выскажу». Но Няня-апа мы больше не видели, да и Әже моя вскоре угасла…
АЛЖИРки
Наш отец сам не курил и никому из гостей не разрешал курить у нас дома. Но было одно исключение. Изредка у нас собирались несколько старух, которые не только курили «Беломор», но и пили водку, и матерились по-русски. Убегая играть во двор, я в таких случаях немного беспокоилась за Әже, которая оставалась посреди всего этого в белом платочке разливать чай.
Много позже, уже во времена перестройки, нам объяснили, что это собирались вдовы репрессированных казахских деятелей, бывшие узницы АЛЖИРа – Акмолинского лагеря жен изменников родины. Как оказалось, наш отец в студенческие годы сдружился с сыном Султанбека Ходжанова (1894-1938) Арыстаном, который вырос в детдоме для детей врагов народа и под чужой фамилией учился на математика. Арыстан Ходжанов рано умер, и отец как бы по наследству стал приемным сыном его матери Гуландам и братом его сестры Зибы. Для нашего отца – бывшего беспризорника и детдомовца – эти отношения были очень важны, он довольно часто уходил ночевать к приемной матери, когда она чувствовала себя неважно, ведь тетя Зиба жила в Москве, была известным в СССР психиатром. Но все это мы узнали задним числом.
А вот одна из этой компании – вдова Магжана Жумабаева Злиха-шеше – была у нас в гостях позже, когда мы уже знали, кто она и какую роль сыграла в сохранении поэтического наследия мужа. Магжан был реабилитирован, наконец вышел его сборник, и лишь тогда мама нам рассказала, как бедствовала эта женщина, как на мизерную пенсию она умудрялась ездить по архивам, по крупицам собирая стихи мужа. Не знаю достоверно, «сидела» ли она в АЛЖИРе, но она была «своей» среди бывших узниц.
В конце 80-х Злиха Жумабаева сдала свою однокомнатную квартиру на ВДНХ государству и переехала жить в Петропавловск, к родне Магжана. Ночь перед поездом она провела у нас. Запомнилось, что она везла свой надгробный камень, наверное, это была привычка полагаться только на себя. Еще у нас висел маленький коврик над детской кроватью, и она попросила его в качестве коврика для намаза, тогда их еще не продавали в Казахстане.
В нашей семье не было пострадавших в репрессиях. Мои прадеды и деды гибли в восстаниях и войнах, умирали от голода, но «сидел» лишь Қалдықожа-бапа – старший брат отца. Типично советская судьба: похоронил родителей, умерших от голода, рос сиротой, заботился о младших, был призван в Красную Армию, должен был демобилизоваться, началась финская война, воевал, после оставили служить еще, потом началась немецкая война, воевал, попал в плен, работал конюхом в поместье богатого немца, освободили из плена и дали 10 лет за то, что был в плену. Но за «политику» у нас никто не сидел.
И тем не менее, дома у нас собирались «алжирки», мы были соседями с семьей Сейфуллиных, и у многих моих старших подруг родители выросли в детдомах для детей врагов народа, т.е. репрессии прямо коснулись большой части казахского народа. Когда мы говорим о последствиях голода и сталинских репрессий, всегда следует помнить о том, что половина казахского народа в результате этих катаклизмов прошла через детдома. В детдоме вырос мой отец и мой нағашы-ата. Спасибо, умереть не дали, но «перековать» в пролетарском духе постарались основательно.
Мафруза-шеше
«И вот ночью в диване включается свет, он открывается, и из него выходит женщина-людоед, она уволакивает в диван спящих людей». Ольга закончила рассказ, и мы с сестренкой, стараясь ближе держаться друг к другу, пошли домой. Полутемный двор и подъезд остались позади, дома так светло, многолюдно и почти совсем не страшно, я перевожу дух, и тут оказывается, что сегодня ночью я буду спать на диване! Одна!
У нашей семьи из шести человек было вполне приличное по тем временам жилье – двухкомнатная «хрущовка» в доме, построенном Академией для своих молодых сотрудников. Редко бывало так, чтобы в доме не ночевали гости.
Типичная ситуация: мама постелила на полу дополнительно 5-6 постелей для приезжающих родственников и уехала с отцом встречать их в аэропорт. Вернувшись ночью, обнаруживает, что все места уже кем-то заняты, стелет еще постели, утром выясняется, что наш студент-родственник загулялся с друзьями, после 23.00 его не пустили в общагу, и он привел всю компанию ночевать к нам домой. Это было вполне нормально для тех лет, когда мало кто из казахов имел жилье в Алматы, а родственные отношения были крепки. В зависимости от ситуации нам, детям, стелили то в спальне, то под обеденным столом в зале, то вообще на кухне. Летом, когда начиналась абитуриентская кампания, мы обычно спали на балконе, где отец сооружал для нас уютный шатер из покрывала. Мужчины выносили раскладушки в палисадник, а то и укладывались на скамейках в беседке. Легко ли: 5-6 абитуриентов с «командами болельщиков»…
В тот день наплыва гостей у нас не было, заночевать осталась лишь землячка моей Әже Мафруза-шеше – днем не наговорились, вот она и решила не ехать домой, а поболтать ночью всласть. В результате сложной рекогносцировки почему-то решено было уложить меня на диван в зале, а двум подружкам постелить на полу рядом с диваном.
Я лежала на диване, слушала бесконечные воспоминания бабушек в духе «Книги Чисел»: От Карабалы – Бекболат, от Бекболата – Самат, от Самата – Мырзахмет… Изредка рядом с домом проезжала машина, и отсвет фар по дуге смещался на потолке. Я не могла заснуть от страха. В конце концов, убедила себя, что когда диван-книжка откроется, прямо перед «женщиной из дивана» окажется беленькая, пухленькая, вкусно пахнущая Мафруза-шеше, вряд ли людоедка обратит внимания на костлявую девочку, тем более я окажусь вне поля ее зрения, как бы за откинувшейся дверью. Повторяя это про себя вновь и вновь, я поплотнее закуталась в новенькую корпешку и заснула под шепот старушек…
Кто-то медленно, но настойчиво тянул с меня корпешку. В ночной тишине слышалось лишь тяжелое одышливое дыхание. Я буквально оцепенела от страха. Будто придавленная им, я не могла не только шевельнутся, но даже и пискнуть. Корпешка медленно, по сантиметру сползала… Вдруг снизу поднялось что-то огромное и темное, приблизилось ко мне и просипело в ухо:
– Давай корпе поменяем, у меня тяжелая, на сердце давит, заснуть не могу.
Это была Мафруза-шеше!
Утром старушки напились чаю, еще поболтали на прощанье, и гостья уехала к себе на такси. Лишь после этого я рассказала Әже о ночном происшествии, умолчав о моих страхах и расчетах. Әже долго смеялась.
– Ой, капризная старуха. Я ей вчера показывала көрпе, которые сделала для внуков, она так просила на ночь ей дать одно из них, я отказала, это же для моих внуков, вот она и дождалась, когда я засну, и сделала-таки по-своему. Она всегда была ерке-баловница. Отец ее баловал, потом муж, когда муж на войне погиб, она стала жить у своего брата-близнеца, который был большим начальником, и он ее обожал, выполнял любые прихоти, теперь вот Жакен балует. Ой, еркіккен кемпір-ай.
Итак, причиной ночного кошмара была моя новенькая корпешка. С год назад Әже заказала из аула тюк верблюжьего пуха (не шерсти!), заново его перемыла, высушила, долго перебирала и теребила, через маму купила атласные отрезы алого и синего цвета для верха, желтый с мелким узорчиком сатин для нижней части чехла, марлю для подклада, и лишь потом принялась за корпешки. Раскладывала на расстеленном на полу старом покрывале марлю, на ней ровным слоем выкладывала пух, потом накрывала сверху марлей и простегивала мелким стежком. Чехол вместе с вложенной заготовкой не просто еще раз простегала – вышила узоры, на каждом көрпе особые. Иногда, когда глаза совсем уставали, нас призывали на помощь – заправить сразу в несколько игл длинные, чуть ли не в рост, толстые нитки. И каждый мелкий стежок Әже делала сосредоточенно, что-то нашептывая про себя. И так день-деньской, прерываясь лишь на готовку, она сидела на полу с абсолютно прямой спиной и вытянутыми вперед ногами, потратив на простегивание каждого көрпе около месяца. Сделала два көрпе с синим верхом для двух внуков и две с алым верхом – для внучек (когда гораздо позже родился наш младший брат, сделала и для него, но с зеленым верхом).
Внутренний проклад Әже сделала из марли, чтобы корпешки были легкими. В моей корпешке марля расползлась, и пух начал сбиваться с середины ближе к краям лет через двадцать пять, уже после смерти Әже. Хотела отдать в ремонт, но потом раздумала, распорола и кое-как починила сама. Сидеть как Әже ни времени, ни терпенья не хватило, тем более, дочка обожала кататься по распоротому одеялу. Вместо марли на внутренний подклад я пустила завалявшуюся дома бязь, да и простегивала второпях Көрпе получилось тяжелым, но моя дочка и сейчас с удовольствием им укрывается, когда в доме холодно.
Сопровождать Әже по Алматы в гости было моей обязанностью, и я с удовольствием ездила с ней к Мафруза-шеше. Шикарная квартира в центре, дома обычно никого нет, на столе дефицитная вкуснятина, в книжном шкафу – вся подписная литература. Лежишь себе на кожаном диванчике, читаешь средневековые романы или научную фантастику Конан-Дойля, а шеше каждый час жарит новую порцию своих фирменных пышных легких баурсаков и приносит их с горстью шоколадок. Сами старушки пьют чай на кухне, Мафруза-шеше рассказывает о том, как любимому внуку перед сном делает «массаж спины», Әже не понимает слова «массаж», шеше ей объясняет, и разговорам нет конца.
Дети шеше на работе или в отъезде, внуки всегда на секции или отдыхают где-нибудь с родителями. Эта ситуация вполне меня устраивала, от домашней сутолоки иногда хотелось отдохнуть, тем более, хозяйку дома – мамину одноклассницу тетю Клару – я не любила. Приходя к нам в гости, она критическим взглядом окидывала наш «творческий беспорядок» и весьма бесцеремонно, на наш взгляд, начинала нас «строить». Возможно, так она проявляла заботу о своей подруге, которой меньше повезло в жизни, но нам это не нравилось. Зато мы любили Жакена-аға, такого же светлого и легкого, как Мафруза-шеше, они даже внешне были похожи.
Ребенок своеобразно воспринимает отношения между людьми, и зачастую это восприятие остается на всю жизнь. Я знала, что Әже и шеше – землячки, что мама и тетя Клара – одноклассницы, что Жакен-аға – целиноградский, то есть, совсем из других краев. Упрямая тетя Клара в молодости из высокомерия отказалась идти в театр знакомиться с приехавшими из провинции родственниками Жакена-аға, и растерявшийся жених уговорил близкую подружку невесты пойти с ним на своеобразные смотрины, и «невеста» очень понравилась родственникам, и потом на свадьбе были недоразумения в духе комедии положений. Но вот удивительно, зная все это, я всегда воспринимала Жакен-аға как сына Мафрузы-шеше, сомнений на этот счет не было.
Жакен-аға сделал хорошую карьеру, и дом у него был, что называется, полная чаша, но ушел он рано, почти первый из родительской кампании. И лишь после его похорон, когда Әже обронила «Хорошо, что Мафруза ушла раньше Жакена, сложно было бы ей жить с дочерью», до меня, наконец, дошло: Жакен-аға был не сыном, а зятем нашей шеше. Вспомнилось: на просторной кухне мы едим отборную конину, а Мафруза-шеше потихоньку жалуется моей Әже на тетю Клару: та вечно готовит борщи и тому подобные городские блюда, шеше «шөп-шалам» (травы) кушать не хочет и втихаря варит конину, благо Жакен набивает мясом три холодильники-морозильника и сам предпочитает мясное, а Клара ругается, однажды вообще в мусоропровод вылила кастрюлю с варившимся мясом. Әже добавила картинку, наконец сложившуюся в голове: «Один раз Жакен не выдержал и при мне закричал Кларе: «Давно бы с тобой развелся, маму жалко, ты же ей вообще дышать не дашь!»».
Казахи любят повторять русские анекдоты о тещах, но на деле в большинстве казахских семей зятья трепетно относятся к своим ене, многие наши друзья хотели бы, чтобы теща жила с ними. Возможно, причиной этому традиционная казахская этика, но еще одно из объяснений: мать, как правило, «отстает» от дочери на поколение в вопросе семейных отношений, а потому чаще всего требует от дочери больше заботиться о муже, да и сама создает дома уютную атмосферу.
Кстати, внук Мафрузы-шеше – серьезный парень, с детства увлекавшийся радиотехникой и закончивший с блеском что-то радиотехническое в Москве, позднее ставший успешным бизнесменом, – любил свою ажеку и наверняка тоже баловал бы ее, проживи она дольше. Бывают такие легкие женщины, которых мужчинам всегда хочется побаловать.
Коммунист и мулла
Захотелось отвлечься от заданной темы – казахские бабушки в русском городе, вспомнился смешной эпизод, как за Әже ухаживали два шала, чуть не подрались.
На айт Әже пригласили земляки, жившие в ведомственном доме в КИЗе (Казахский Институт Земледелия). Когда мы добрались, за дастарханом уже расположились проживающие по соседству старушки и два старика – оба в костюм-шалбар, с какими-то даже орденскими планками. Такое «обилие» представителей старшего поколения мужчин, возможно, объяснялось почти сельским расположением поселка.
Как бы то ни было, хозяйка посадила Әже на төр, с двух сторон от нее двух стариков, а меня чуть ниже одного из них, по левую руку от Әже. В общем-то, я привыкла, что Әже всегда сажают на самое почетное место, тем более мы были дальними гостями, к тому же Әже с юности дружила с родителями и хозяина, и хозяйки дома, но все-таки зрелище Әже, восседавшей выше двух стариков, показалось мне странноватым.
Как стало понятно чуть позже, у хозяйки был дополнительный расчет развести двух стариков, т.к. они стояли на разных мировоззренческих платформах и, по всей видимости, были местными записными полемистами. Один из них был убежденным коммунистом, кажется даже сталинистом, второй – в тюбетейке на обритой голове – муслимом, молдой. Не поняла, был ли он религиозным неофитом – в Советское время мужчины обычно становились религиозными, выходя на пенсию. Вообще казахи, как и император Константин, считали, что о Боге и спасении души следует думать в старости, когда шансов нагрешить остается мало, увлечение религией у молодых даже порицалось.
Как полагается мулле, он пытался проповедывать, рассказывать что-то душеспасительное, тем более и повод был подходящий – айт, а коммунист все время срезал его фразами в духе Остапа Бендера «Почем опиум для народа». В какой-то момент стало очевидно: давнишняя дискуссия обрела новый оттенок – соперничество за внимание женщины. Әже всегда отличала молодая осанка, она умела одеться со вкусом, ее платок-шарқат гармонировал по текстуре и цветовой гамме с собственноручно сшитым крепдешиновым платьем, на ногах привезенные мною из командировки в Москве туфельки 33-го размера, из-под подола выглядывают шелковые чулки, короче, сопровождая Әже в гости, я всегда чувствовала себя эдаким пажем или оруженосцем при королеве. К тому же она была новой в этой компании, да и место на торе выше двух стариков облекало ее особым, опять же королевским статусом.
Расчет хозяйки использовать Әже в качестве своего рода буфера между завзятыми спорщиками оказался ошибочным. Старики не на шутку разгорячились, полемизируя, они все время адресовались к Әже, как бы призывая ее рассудить их вечный, как жизнь, спор. При этом, во время тирады одного, второй со всей старинной галантностью подкладывал на тарелку Әже лакомые кусочки, чистил и фигурно нарезал фрукты для нее, колол орешки, выкладывая все эти подношения полумесяцем вокруг ее тарелки. Әже ела и слушала с серьезным видом, делала вид, что не замечает соперничества, но я-то понимала, что она с ее ироничностью просто наслаждается зрелищем двух наскакивающих друг на друга петушков. Да и самоиронии ей было не занимать, смехотворность ситуации она понимала лучше, чем кто-либо еще, потому с опущенным долу лицом иногда чуть ли не подмигивала мне, бросая искоса взгляды на двух ухажеров.
Вдруг сидевший выше меня старик опомнился, оглядел забытых в пылу полемики и совсем заскучавших соседок, сунул мне в руки ножик для фруктов, наставительно сказал: «Что сидишь без дела, ухаживай за гостями!» и опять повернулся к Әже. Как выяснилось, оставшиеся без ухажеров кемпушки были совсем не против поесть фруктов и орешков, так что больше мне оглядываться на төр было некогда, легко ли окормлять 10-15 бабулек. До самого конца я только и делала, что очищала от кожуры и нарезала яблоки, делила на дольки цитрусовые, колола и чистила орехи, мне даже самой поесть некогда стало.
Логикой жизни последнее слово осталось за муллой, именно ему было поручено в заключение прочитать молитву и благословение, что он и исполнил, стараясь отвлечься от суетного…
Астархан-шеше
Ее чтение Корана с раскатистым «ашшшайтани рражими» наверное останется для меня, в этом не сведущей, нормативным, т.к. именно она читала молитвы у нас дома за праздничным дастарханом. Әже особенно выделяла ее среди своих подруг, за возраст, за знание Корана наизусть, за трудную судьбу и умение смириться, «тәубе», как говорят казахи. И еще: она была из Астрахани и принадлежала к тому же роду, что и мы.
Она была не только вдовой, как остальные, но и пережила всех своих детей, числом тринадцать, и кое-кто за глаза называл ее «жалмауыз» – «пожирающая прорва». Жила она с одним из своих внуков, который дважды развелся из-за нежелания жен ухаживать за престарелой свекровью. В третий раз он решил не искушать судьбу и метался между двумя домами, сам обихаживая 90-летнюю бабушку. Иногда он срывался в запой, в пьяном гневе обвиняя ее в том, что в свои 50 только-только стал отцом. В такое время его раздражала даже религиозность бабушки, то, что она не хочет отвечать ему и лишь молча молится за него, глядя на него серыми потускневшими глазами, казавшимися выпученными за толстыми стеклами очков. Конечно, на самом деле он был прекрасным внуком, и его хлопотами она дожила почти до 100, ни в чем не зная нужды.
Шли 90-ые, и ее возраст побуждал задумываться о соизмеримости человеческой жизни и истории. Она не просто родилась до Октябрьской революции, она встретила ее взрослой, по меркам того времени, девушкой. Ее жизнь вместила и Гражданскую войну, и коллективизацию, и Вторую мировую, и оттепель, и Бог знает, что еще.
Была Астархан-шеше высокой, костистой, сама уже передвигаться не могла (хотя и вела сама хозяйство, раскатывала тесто жилистыми руками), и если ее внука дома не было, то меня обычно отправляли привести ее к нам в гости. Дорога от соседнего дома до нашего занимала минут пятнадцать, и она рассказывала мне разные истории, осторожно переставляя палку. Когда Әже не стало, я не только приводила ее к нам домой на поминки, но и по пятницам заходила к ней, чтобы она почитала Коран, помолилась за мою Әже. Мы сидели с ней за столом у окна, а она рассказывала: твоя Әже вот так же заходила ко мне по пятницам, а когда возвращалась домой, всегда во дворе оборачивалась и махала мне рукой. Шеше поднимала жилистую руку и показывала, как именно Әже ей махала с улицы. Почему-то для нее это было очень важно, и она об это рассказывала каждый раз.
Иногда шеше проявляла какую-то поистине детскую наивность. Однажды рассказала увиденный ночью сон: ее мама стоит во всем белом и машет рукой, зовет ее. «К чему этот сон, как ты думаешь?», – спрашивала она у меня, а потом продолжала: «Я ведь не помню, как выглядела моя мама, она умерла давно, еще до революции, и ее образ стерся в памяти. Но я знаю, что это была она. Я ведь на нее обиделась. Когда еще была ребенком, у нас в ауле была страшная инфекция, все дети в нашей семье, кроме меня и младшего брата, умерли. Однажды вечером мама уложила меня поперек постели в ногах у брата. К утру он умер, а я выжила. Я так и не смогла простить своей маме это». После этого сна, в котором ее позвала мать, она прожила еще несколько лет.
Сары-шеше
Она была белокожей, рыжей с зеленоватыми глазами, ширококостной и полной, что вообще-то не характерно для ее поколения. Она не знала своего происхождения, ее нашли в голодные годы рядом с Карагандинским вокзалом и отдали в детдом. За дастарханом она всегда немного виновато улыбалась, т.к. из-за плохого слуха не могла принимать участие в общем разговоре. Ее занимавший высокую должность сын умер, а невестка и внуки третировали ее, потому что ее младшие дети – рожденные от аменгера после гибели мужа на фронте – претендовали на отдельную однокомнатную квартиру, которую ей сделал первенец.
Я почти не знала Сары-шеше, но почему-то через несколько лет после смерти моей Әже и ее смерти, она снилась мне несколько раз вместе с еще одной бабушкой, имя которой после пробуждения я никак не могла вспомнить. В этих снах она оберегала мою новорожденную дочку, пыталась защитить меня от житейских ошибок.
Өскемен-шеше
Довольно высокая, тоненькая, смуглая бабушка была родом из Восточного Казахстана. Она жила вдвоем с взрослым сыном, много хлопотала по хозяйству и не так часто общалась со сверстницами. Әже как-то раз после очередной прогулки с подругами пришла немного подавленная и задумчиво сказала: «Өскемен-кемпір рассказала, как трудно ей пришлось после гибели мужа на фронте, как грубо с ней обходились аульные активисты. Я не поверила, но остальные подтвердили ее слова. У нас в Джамбейты все не так было. Если на кого-то приходила похоронка, то в семью ее нес не почтальон, а кто-то из начальства, приносили соболезнования, помогали справить поминки и вообще поддерживали как могли осиротевшую семью. Знаешь, мне кажется, ваш дед до того, как уйти на войну, установил такие порядки в нашем ауле. Все зависит от самих людей».
К годовщине смерти Әже я хотела, чтобы кто-нибудь почитал Коран на ее могиле в Кенсае, ведь такие вещи были важны для Әже при жизни. Я с детства сопровождала Әже в ее поездках на могилу ее сына, нашего нағашы. В 70-ые и в начале 80-х достаточно было полчаса подождать у могилы, чтобы показался старик-татарин, целыми днями ухаживавший за заброшенными могилами, читавший молитвы за упокой тех, кто забыт родными. Әже была знакома с ним, они здоровались, а потом он читал суру Корана. Потом он перестал появляться на Кенсае, муллы помоложе обычно сидели у входа на кладбище и шли с нами на могилу по приглашению. Следующее поколение мулл хотело зарабатывать деньги по-легкому, сидя у ворот, а потому они начинали наставления: мол, неважно, где читается Коран. Әже их не уважала и часто проходила мимо, не обращая внимания на их зазывания, а у могилы сына сама читала молитву шепотом.
Везти Астархан-шеше на Кенсай было невозможно, тем более выдалась холодная зима, навалило много снега. Я осмелилась обратиться к почти незнакомой мне Өскемен-шеше, она с готовностью откликнулась на мою просьбу. Такси завязло у ворот кладбища, и мы пошли пешком, от конторы дальше дорога была почти нечищенна, вверх по холму мы ползли, увязая в снегу чуть не по пояс. Мне стало стыдно, что я мучаю 80-летнего человека, но шеше очень спокойно отнеслась ко всем неудобствам. Обратная дорога тоже была не из легких, уже темнело, такси поймать не удалось, и мы – промокшие и замерзшие – поехали в набитом автобусе, да еще с пересадкой. Никогда не забуду, с каким теплом смотрела на меня Өскемен-шеше, когда мы расстались у ее подъезда.
Вскоре она переехала с сыном в другой район, и мы потеряли контакт.
Офицердің кемпірі
Она была единственной «мужней женой», что и отразилось в ее прозвище «Офицерская старуха». А ведь, как и ее подруги, могла остаться вдовой. Во время войны ее контуженного мужа приняли за мертвого и уже засыпали землей в братской могиле, когда вдруг заметили движения руки. Смерть его ждала в 80-ые годы, когда на тихой, почти непроезжей тогда улице Маркова его сбил мотоциклист. Дети старика рассудили, что такова видно его судьба, пожалели молодого парня-ингуша и без всяких просьб написали заявление с отказом от претензий.
Офицердің кемпірі была шумной, говорливой, веселой, предприимчивой и любила прихвастнуть. Помню, Әже даже рассуждала на тему, не связан ли характер подруги именно с тем, что большую часть жизни она прожила рядом с мужем. Но, скорее всего, она была такой от рождения. Кстати, она была аргынкой, и любила подчеркнуть это. Удачливость и энергичность родителей унаследовали дети, и эта семья была состоятельнее многих других.
В отличие от большинства пожилых казахов Офицердің кемпірі в начале 90-х с восторгом приняла рынок и призыв Президента всем заняться торговлей (не торгует только ленивый, кажется так было сформулировано). Өскемен-кемпір, например, стояла на импровизированном базарчике на углу Аль-Фараби и Университетской , но страшно стыдилась своей торговли, так что нам пришлось обходить этот квартал стороной. А Офицердің кемпірі вышла на Никольский рынок , и стоило кому-то из ее знакомых появиться в поле ее зрения, как она начинала громкими криками призывать к своему прилавку. Дети кое-как усмирили ее бизнес-порыв, но стремление торговаться было поистине неудержимым.
Помню, как-то зимой она пришла к нам и с видом конспиратора сказала: «Тебе рис-сечка нужен? Я тут неподалеку торговалась, цену в два раза сбила, но у нас дома рис есть. Да и дети увидят мешок, ругать будут, запрещают тяжести поднимать. Бери санки, вместо меня купишь, ты же торговаться не умеешь». Я действительно купила рис по выгодной цене, и она еще пыталась помочь мне тянуть санки, по дороге рассказывая об успехах своих детей и внуков, о их богатом житье. Ее похвальба так переплеталась с юмором, что совершенно не раздражала. «Знаешь, я своего старшего сына за қазы-қарта продала. Невеста мне его не нравилась, но сваты оказались из Кокчетава и угостили такой кониной… Я подумала: кого бы сын ни привел – мне невестка не понравится, а так хоть кокчетавскую конину буду на согум получать!», и она залилась смехом.
Когда я после своей свадьбы шла через ее двор и остановилась с ней поздороваться, она сначала расспросила меня о муже, поздравила со словами «Қазақ бекер айтпайды, отырған қыз орын табады» («Не зря казахи говорят: засидевшаяся в девках свое место найдет»), а потом высказала свою обиду, из деликатности обвинив не меня, а моего отца: «Отец твой подлец, на свадьбу не пригласил, а ведь я с твоей Әже была дәмдес». Я растерялась, мы действительно впопыхах забыли пригласить ее, тем более, что пережив своих подружек, она заскучала, стала все чаще жить не у себя, с младшим сыном, а гостить в домах других своих детей. Я начала мычать извинения: «Шеше, ради Бога простите. В любой момент… Всегда Вам рады…» Она величественно перебила: «Мен анау-мынау заходите-проходите деген кемпір емеспін. Маған арнайы шақыру керек», но, не выдержав тона, прыснула.
Ей было уже далеко за 80, когда она вопреки своей декларации зашла к нам домой без специального приглашения, чтобы поздравить меня с рождением дочки и принесла в подарок самолично связанную крохотную красную мохеровую шапочку на манер тех, что носили мы в детстве. «Глаза уже плохо видят, с петлями замучилась, но связала. Это же первая правнучка твоей Әже. Пусть будет счастлива».
[1] «Дәм» – вкус, еда вообще, «дәмдес» – те, кто вкусили вместе пищу. У казахов, как и у многих других народов, совместное угощение является священным, создает некие обязательства по отношению друг к другу. Вообще в казахских устойчивых выражениях прочитывается представление о древнем божестве, связанном с пищей и определяющем судьбу человека, срок его жизни и т.д. «Дәмім жібермес» – проклятие «пусть покарает моя пища», букв. «моя пища не пустит», «дәм атсың» – проклятие, букв. «да накажет (совместно принятая) пища», «дәмнен үлкен емессің» выражает запрет отказываться от приглашения на трапезу, особенно утреннюю, букв. «ты не больше пищи», «дәм айдады» – «было суждено, так пришлось», букв. «пища пригнала», «дәмі таусылу» – умирать, отходить, букв. «пища закончилась». Созвучны слова «дәм» и «дем» – дыхание, есть и выражение «демі таусылу, біту».
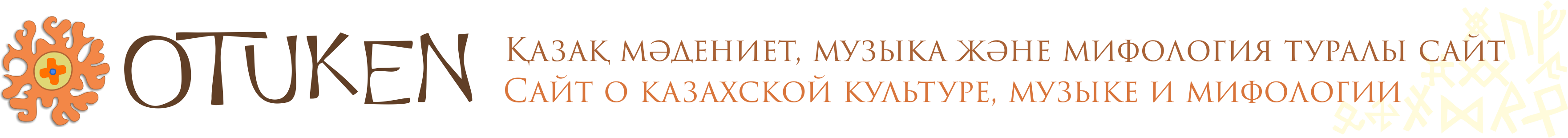
Читала со слезами на глазах. Такое родное и близкое. Мир который ушёл. И не будет таких аже больше. Спасибо большое.
очень интересно было читать, на одном дыхании. мне тоже знакомо ходить в гости с апашкой. очень трогательно. спасибо.