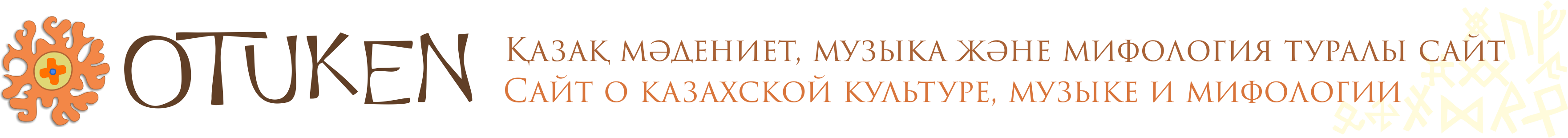Зира НАУРЗБАЕВА
Дорожка света, образованная фарами несущейся по степной трассе машины, терялась во тьме. Свет был бессилен рассеять окружающую тьму, и все-таки он существовал. Казалось, он не просто освещает наш путь, казалось, дорога перед машиной возникает из ничто под лучами и растворяется, исчезает во тьме за нами. На коленях у меня посапывала дочурка, спали и спутники, водитель был безмолвен, так что я была одна в ночи. Казалось, лишь я ощущала каждой клеточкой тела наш чудесный полет сквозь тьму. Я одна осознавала эту тьму как безмолвную вечную угрозу жизни, теплившейся в капсуле кабины. Уже довольно увесистое, тельце дочки грело живот, и что-то глубоко внутри – гораздо ниже сердца – таяло, млело, как бы возвращаясь в прекрасное время, когда этот комочек, тогда совсем еще крохотный, дышал и двигался там, внутри… И как лоно женщины закрывает и оберегает своего нерожденного еще младенца, так всем своим телом и кольцом рук, мне казалось, я закрывала свою дочурку от тьмы, что сзади и по бокам, и лишь слабый луч света впереди оставался открытым для нее. И вдруг я подумала о моей уже покойной маме и маме моей мамы, и ее маме, и о тысячах поколений моих прабабушек по женской линии, как они жили, рожая и выкармливая детей в занесенной снегом юрте посреди морозной и грозной степи или в пути во время кочевья, и часто, слишком часто во время войн, ожидая мужа и не зная, жив ли он еще, стоит ли его
войско живым щитом на пути противника, и не ворвутся ли сегодня ночью враги в беззащитный аул. Они рожали, и чтобы там ни говорили современные «продвинутые», рожали не из животного инстинкта размножения, а ведь бывают ситуации, когда даже животные не плодятся, приберегая силы для самосохранения. И если бы хоть одна из многотысячелетней цепочки моих праматерей утратила любовь и веру в жизнь, необходимые женщине, чтобы привести в этот мир беззащитное существо, меня не было бы на этом свете и не было бы моей дочурки…
Наша жизнь как свет фары, такой яркий у источника и так быстро теряющийся в каменной тьме. Ярко освещенный отрезок – это наше настоящее, отрезок слабеющего света – это наше будущее, о котором мы строим планы и тем самым смешим Кого-то. И нам совсем не дано знать, что находится за границей света и тьмы. Мы лишь полагаем, мы надеемся, что там наш путь не прервется. И мы можем лишь своей любовью и верой оградить свое дитя от тьмы, что пожирает прошлое и угрожает будущему.
Моя дочь лишилась своей нагашы-аже – бабушки по маме – в девять месяцев, а бабушки по отцу – за двадцать лет до своего рождения. Но в полтора-два годика она иногда весело смеялась во сне, а потом просыпаясь, оглядывалась вокруг и спрашивала: «Әжем қайда? Қайда ол кетті?». На прогулке она пытливо вглядывалась в лица казахских старух, крутилась вокруг сидящих на скамейках бабушек, приносила им в дар, клала в морщинистые руки листочки и камешки. А однажды на групповом фото из отрытого в антресоли фотоальбома она моментально узнала: «Міне, әжем!», и на следующем фото так же безошибочно она узнала свою аже. И младенческие воспоминания здесь были не при чем, потому что узнавала она не мою маму, а маму своего отца. А значит, дух ее бабушки по отцу приходил в ее сне поиграть с двадцатой или двадцать пятой внучкой… Но не дух моей мамы – к своей первой и такой любимой внучке, и я пыталась понять – почему… А когда дочка чуть подросла, она стала задумываться, почему у других детей есть обе бабушки, и зачастую еще и прабабушки, а у нее нет ни одной. И она спросила у меня: «Если у меня нет аже, значит и у моих детей не будет аже. Да?» И я поклялась своей четырехлетней дочке, что у ее детей будет, обязательно будет аже, и довольно еще бодрая. И если иногда я вспоминаю о здоровом образе жизни и делаю зарядку, то именно во имя этой клятвы.
«Пока у человека есть мать, он остается ребенком», – говорит старая мудрость. Но речь, мне кажется, идет не об инфантилизме. Когда моей мамы не стало, я была на прогулке с дочкой. Я внесла малышку в дом, и мне сообщили страшную весть, но от постоянного недосыпа или по какой-то другой причине, эта весть не дошла до моего сознания. «А, ладно, я сейчас занесу коляску и начну освобождать комнату для гостей. И для тела нужно освободить комнату», – ответила я, я ведь уже слишком хорошо знала, что такое смерть и похороны. И еще через несколько часов, когда почувствовав что-то ужасное, до меня из Парижа дозвонилась самая близкая подруга и спросила, что со мной, я довольно спокойно ответила «Да нет, ничего. Мама умерла». Вместе с мужчинами я была на кладбище, решая какие-то формальности, вместе с женщинами пекла и готовила необходимое для похоронного обряда, сидела ночью рядом с холодным уже телом, вроде бы горевала и плакала, но… Но по-настоящему я поняла, что произошло, когда стояла на краю могилы рядом с холмиком вынутой из ямы рыжей кенсайской глины, когда обернутое в белый саван тело моей мамы опустили в могилу и начали засыпать этой самой глиной.
Я наконец осознала свою утрату и рыдала от горя, но еще я поняла, что отныне моя судьба, судьба старшей в роду женщины – стоять на краю могилы. Я – первая в очереди на то, чтобы уйти в нее, уйти во тьму. И я могу лишь молить Бога, чтобы эта очередность не была нарушена, чтобы никто не отнял у меня моего священного права. Женщина не только приводит ребенка в мир, долг матери – как можно дольше стоять между ребенком и тьмой, прикрывать от него зрелище разверстой пасти небытия. Может быть, в исламе женщине не позволяется участвовать в погребении потому, что жизнь и смерть не должны соединиться в ее сознании, что смерть оскверняет, лишает жизненной силы, необходимой для рождения. Но мы, мы уже воспитаны по-другому нашими бабушками и матерями. Моя нагашы-аже, когда хоронила своего 43-летнего сына, сама спустилась в могилу, чтобы уложить ему поудобнее голову. Мне кажется, не было в мире скверны – физической или духовной – которая могла бы запачкать мою Әже, ее смуглые натруженные руки или ее храброе сердце матери.
В древней Греции высшими почестями и покровом тайны были окружены Элевсинские мистерии. Не было в Элладе поэта или философа, который бы ни воспел эти мистерии: смерть не коснется того, кто получил посвящение в Элевсинах, и не может быть счастлив тот, кто не прошел через эти мистерии, не познал их тайную мудрость. «Счастлив, кто их видел! Не посвященные же в таинства не будут блаженствовать, а будут пребывать под покровом печального мрака».
По мнению культурологов, сердцевиной Элевсинских мистерий были драматические представления, рассказывающие историю двух богинь – матери и дочери, Деметры и Персефоны, похищение Персефоны богом подземного мира, горе богини-матери, из-за которого вся природа перестала цвести и плодоносить, возвращение дочери на время и примирение Деметры с богами. Этот миф объясняет цикличность умирания и возрождения природы: когда Персефона возвращается к Деметре из подземного царства, мать радуется и наступает весна, когда Персефона возвращается к мужу в мир мертвых, Деметра снова одевает траур, и природа умирает. Полагают, что участники мистерий, в том числе и мужчины, созерцая драматическое представление, совершая путешествие во тьме, оказываясь перед богом мира мертвых, созерцая колос, который вырастает благодаря смерти зерна в земной могиле, должны были прочувствовать цикличность жизни и смерти, бесконечность, преемственность жизни, передающейся от матери к дочери, от женщины к женщине. Эта истина, высказанная в словах, кажется банальной, наверное поэтому Элевсинские мистерии и были окутаны тайной. Но осознание этой банальности во время многодневных церемониалов очищений и испытаний, становилось источником спокойствия и мудрости для бренного человека.
Мои Элевсины растянулись лет на девять. Путь во мраке я начала, когда ушла Әже. Горе мое было яростным. Я не могла понять, почему ушла та, что восхищалась жизнью, чей Свет смягчал даже огрубевшие души, и почему продолжают жить ничтожества. Мне хотелось закричать так, чтобы луна сорвалась с неба, чтобы раскололся и провалился в тартарары этот равнодушный мир. Я ходила с опущенной головой, чтобы не видеть ненавистные бессмысленные лица случайных прохожих и чтобы не пугать их своим взглядом, а еще потому, что не могла оторвать глаз от земли, принявшей в себя Әже. Так прошел год или два. Автобус наверное в сотый раз вез меня на Кенсай одну. На одной из остановок чуть в стороне от толпы стояли две представительницы столь неприятной породы нахрапистых и горластых бабищ, готовых задавить чужого ребенка в очереди за «суповым набором». И вдруг через грязное стекло я увидела их как-то очень выпукло и четко. И поняла, что эти пожилые женщины умрут, как умрем мы все, и что они знают о предстоящей смерти, и боятся ее, как никогда не боялась Әже. Я пожалела их, своих сестер по смерти…
В машине, несущейся по ночной степи, я думала о том, что дочь от меня примет чашу жизни, пронесенную нашими аже через тьму тысячелетий, через войны и голод, через взлеты и падения. И еще я ощутила, что мы не одни в ночи, что наши праматери незримо оберегают нас. «Көзден-тілден, ауыру-сырқаудан, пәле-жаледен, ажал-қатерден қызымды сақтай гөр», – молила когда-то Әже, перебирая мои волосы. И я шепчу эти слова, обнимая свою спящую дочь…