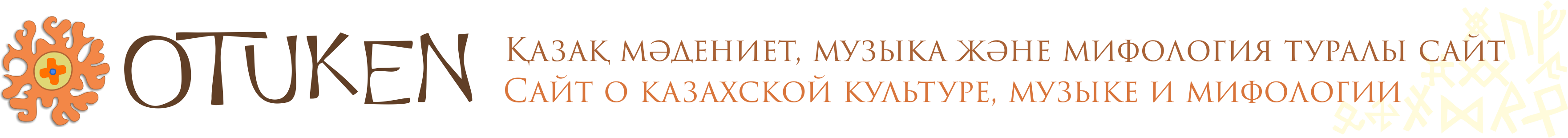МИФОРИТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Большинство работ о казахской культуре создаются людьми, которые знают о тех или иных аспектах нашего духовного наследия больше, чем среднестатистический читатель. Это исследование возникло не от избытка, а скорее от недостатка информации, из желания ответить на вопросы, встававшие при знакомстве с книгами, исследующими и сравнивающими культуры разных народов и эпох, их смысл, структуру, логику развития.
Автор, подобно многим своим сверстникам, воспитанным в преобладающе русскоязычной среды и имеющим гуманитарные наклонности, умеренно интересовалась казахской литературой, фольклором и историей наряду с русской, европейской, восточной и др. культурами. Привязанность к казахской культуре существовала скорее как любовь к конкретным людям и как чувство естественной, по праву (и по обязанности — тяжелая, чреватая многими проблемами обязанность для ребенка и подростка, растущего в столице КазССР) рождения принадлежности к языку и культуре, которые, как внушалось с детства, неминуемо и необходимо должны исчезнуть, раствориться в потоке общемировой культуры ради прогресса и процветания человечства. Это ощущение привязанности к обреченной культуре вызывало острую потребность в ее оправдании – оправдании в высоком смысле – познании ее смысла и истины, ее правды как права на жизнь (ср. теодицея, антроподицея – учения об оправдании бога и человека). Поэтому позднее размышления Ф.Ницше, например, о мифе конкретной культуры как ее горизонте, придающем целостность и силу культурному движения, откликались вопросом о мифе казахской культуры, а слова О.Шпенглера о существовании идеала, прафеномена культуры, определяющем развитие ее конкретных жанров и форм, — вопросом об идеале казахской культуры.
Оставим, однако, исследование развития личности ребенка, душа которого уязвлена и не хочет смириться с “рациональным и справедливым” приговором истории и партии, психологам, а исследование событий, произошедших за последние годы в нашей стране, — историкам. Для нас важно то, что создавшаяся ситуация дает казахской культуре шанс на возрождение в новых исторических условиях и в новом качестве. Важно также и то, что на рубеже тысячелетий в мировом общественном сознании возникло и распространяется понимание того, что унификация и обезличивание, деградация отдельных культур под воздействием массовой культуры представляют опасный для будущего человечества процесс, определяемый в экологии как слишком узкая специализация биологического вида “человек разумный”, привязывающая его к слищком узкой экологической нише.
С позиции современной науки жизнь предполагает существование различия, а развитие – это усложнение, дифференциация, взаимодействие разнообразного. Живая мировая культура возможна лишь как диалог культур (В.Библер) ныне существующих и уже исчезнувших народов. Но этот диалог, не перерастающий в монолог, без угрозы растворения, унификации, обезличивания, возможен лишь как диалог определившихся культур. Только культура, познавшая свои истоки и смысл, свою самоценность и самобытийность, приобретает извечность и всеобщность, способна внести свою тему в диалог веков и культур.
Этот диалог стал возможным в результате того, что западная культура на рубеже ХIХ-ХХ в.в. достигла той стадии зрелости, когда наряду с беспредельностью, бесконечностью как своим идеалом она ощутила пределы своего развития, свою конечность. Это шоковое ощущение заставило говорить о смерти бога и человека, конце мира и истории, а также побудило обратиться к своим истокам и основаниям, увидеть себя как одну из многих существовавших в истории культур. Научно-теоретический пафос западной культуры позволил ей не просто выйти за свои пределы, увидеть себя извне, но и создать научный аппарат познания и сравнения культур, а культурологии приобрести статус ведущей науки.
Казахская культура богата духовным содержанием, сформированным уникальным способом существования и историческим опытом. Но именно эта уникальность явилась причиной “подозрительного” к ней отношения со стороны мировой гуманитарной мысли, для которой культура кочевая, шаманская, устная всегда была и есть странной, маргинальной, почти невозможной (культура – это прежде всего культура оседлого земледелия, фиксация места жительства, материальных и духовных результатов тем или иным способом.). Кочевник, даже если он в течении тысячелетий сосуществует и взаимодействует в пределах ойкумены с оседлыми культурами, обмениваясь техническими изобретениями, товарами, фольклорными сюжетами, религиями и генами, создает купольные сооружения диаметром два десятка метров, остается для своих оседлых соседей более чужим и далеким, нежели какая-нибудь вновь открытая заокеанская цивилизация, известная лишь руинами, человеческими жертвоприношениями и отсутствием колеса, плуга и ездовых животных. Даже теологические дискуссии о том, можно ли считать жителей этой цивилизации потомками Адама, обладающими человеческой душой, не мешают ученым уверенно классифицировать свое открытие как развитую цивилизацию, в то время как кочевая культура может претендовать в лучшем случае на место в рубрике цивилизаций с задержанным развитием.
В этой ситуации факт живого непосредственного восприятия современным казахом музыкального или поэтического творения ХУ, ХI, а то и УII века, лишний раз свидетельствует в глазах науки об архаичности, неисторичности, даже реархаизации культуры последних кочевников Евразии. Между тем для постмодернизма, например, характерно восприятие культурных феноменов и стилей прошедших эпох как одновременных, современных, точнее, вневременных, т.к. вместе с историей приходит конец и историческому времени. Вообще исследования современных авторов маргинальных явлений западной культуры, теоретическая позиция и ход размышлений некоторых из них (М.Фуко, Р.Барт и др.) вызывают неожиданные ассоциации с традиционной казахской культурой, на протяжении всей истории отторгаемой западным сознанием не просто как чуждой, но и неприемлимой. Такая встреча маргинальной западной культуры с традиционной культурой кочевников становится возможной потому, что западная культура, возникшая как институт оседлости, перерастает свои пределы, обнаруживая за ними некий иной опыт, иную реальность, которую в принципе невозможно освоить привычными средствами. В попытке изобрести новый язык, способный отразить опыт Иного, маргинальная западная культура неминуемо сближается с кочевой и шаманской культурой, представляющей “эффективную встречу с Другим, опыт различия”.
Однако, для того чтобы духовный опыт казахского народа мог быть явлен и воспринят мировой культурой, необходимо прояснить заложенное в языке, музыке, фольклоре, ритуально-обрядовой практике онтологическое, когнитивное, антропологическое содержание. Собирательно-описательный этап изучения традиционной духовной культуры близится к завершению, т.к., к сожалению, уходят из жизни ее носители. В нынешней ситуации необходимо ее теоретическое исследование как целостного способа мировосприятия, т.е. как мифологии, а также развитие казахской национальной философии, выявляющей внутренние потенции к философствованию казахского языка.
Несмотря на отсутствие социального заказа, уже в советский период усилиями отдельных авторов были предприняты исследования исторического содержания в фольклоре (А.Маргулан, А.Коныратбаев), религиозно-обрядовой практики, ее домусульманских пластов (А.Толеубаев, Р.Мустафина), казахской инструментальной музыки в русле семиотики текста (А.Мухамбетова, Т.Сарыбаев), типов носителей казахского фольклора (Е.Турсунов), реконструкция мифологических представлений саков по археологическим артефактам (А.Акишев, Г.Медоев). Многообещающими выглядят работы лигвистической школы акад.А.Т.Кайдарова по анализу структур односложных корней и основ казахского языка. За последние годы появился ряд интересных работ, рассматривающих феномен казахской культуры в различных аспектах. Своеобразная ситуация, когда молодое поколение ученых-гумантариев одновременно находится как бы внутри и вне национальной культуры, является по своему благоприятной в культурологическом плане, создает возможность исследовать традиционное духовное наследие с использованием методов и подходов, выработанных современной гуманитарной мыслью, подходов, требующих дистанцирования от объекта исследования. Предлагаемая читателю работа представляет один из возможных вариантов такого исследования.
Цель работы состоит в определении специфики традиционной казахской культуры, ее смысла и оснований, логики развития через выявление и анализ мифоритуального содержания ряда фольклорных текстов. В соответствии с современными представлениями миф и ритуал рассматриваются как основополагающие и движущие силы культуры, позволяющие ей самоопределиться по отношению к природе и другим культурам как специфический и самоценный способ существования человека. Подобное исследование казахской культуры позволяет одновременно выявить как ее уникальность по отношению к родственным культурам, так и типологические характеристики неканонической (кочевой, шаманской, устной) культуры вообще, которую казахская культура представляет в наиболее яркой и завершенной форме.
В основу работы легли результаты, полученные в ходе структурно-семантического и сравнительного анализа казахских фольклорных текстов (эпосы, сказки, аныз), а также этнографического материала, содержащегося в работах Ч.Валиханова, А.Диваева, Г.Потанина, В.Радлова и современных ученых. Для анализа и интерпретации фольклорных текстов были привлечены методы и подходы, разработанные как в рамках советской школы (О.Фрейденберг, Я.Голосовкер, В.Топоров, В.Семенцов), так и в рамках французской гуманитарной науки (К.Леви-Строс, М.Фуко, Р.Барт), а также английской социальной антропологии (В.Тэрнер), семиотики текста (Ю.Лотман), нейросемиотики и нейролингивистики (А.Лурия, Р.Якобсон, В.В.Иванов). Структура работы выстроена в соответствии с эвристической схемой Первоначало – Тождественное – Иное, примененной М.Фуко для анализа западной культуры.
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю проф., д.ф.н. М.Ш.Хасанову и руководителю культурологического семинара проф., д.ф.н. Б.Г.Нуржанову.
Глава 1.
ЭПИЧЕСКИЙ БАТЫР КАК ТОЖДЕСТВЕННОЕ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
ГЕРОЙ-ТОТЕМ КАК ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО КОСМОСА
При обращении к традиционному мировоззрению казахов для нас первостепенным является не представление о разного рода сверхъестественных магических существах и отношениях с ними, но ощущение некоей единой космической силы, присутствующей в любое единичности, придающей целостность и смысл конкретному существованию. Присутствие этого единого гармонизирующего начала воспринимается не как нечто фантастическое, а как облагораживающий и очищающий повседневное бытие идеал. Этот идеал воплощен в образе эпического батыра, который является манифестацией единого, своего рода инкарнацией вечной силы. Такое мировосприятие офрмилось в тотемизме, что и будет продемонстрировано в данном параграфе на материале эпоса “Алпамыс”, как одного из самых архаичных в казахской традиции. Архаичность его подтверждается и его распространенностью и многовариантностью, и образом главного героя, имеющего параллели в целом ряде эпосов тюркских народов Сибири, Средней Азии и Закавказья.
Эпос “Алпамыс” взят не только как один из наиболее архаичных текстов, но и как обладающий типичной для казахского эпоса структурой. Эпос состоит из четырех частей:
вымаливание у Всевышнего сына,
поездка за нареченной и увезенной в чужой мир невестой,
поездка в чужой мир и женитьба на его представительнице,
возвращение неузнанного героя на родину.
Эпос, согласно А.Тойнби, создается народом во время миграции, и главным его пунктом является путешествие героя в чужой, “иной” мир, за границы “своего” мира. В центре нашего анализа эпоса находится не историческая конкретика (исторически существовавшие герои, события, легшие в основу сказания), которые с ходом времени могут выветриваться или вводиться в эпос, не идеология, которую часто постигает та же судьба, а некий архетип, структура сознания, определившая структуру повествования. Этот архетип, общий для всего человечества – разделение мира на “свой” и “чужой”, где “свой” мир связывается с границами конкретной человеческой общности, освоенной ею средой обитания, а “чужой” включает весь остальной мир (греки офрмили такое представление в понятиях “космоса” и “хаоса”, которые будут употребляться в ходе изложения, но без их сфорировавшегося за тысячелетия философского контекста).
Выявляя в эпосе “Алпамыс” систему смыслов, заложенных в него тотемизмом, я рассматриваю в русле разработанных О.Фрейденберг представлений о нем, как архаическом, акаузальном, нерасчлененном и конкретном мировоззрении, для которого,в первую очередь, характерны единство человека с природой и система тождества и редубликации.
В работах по казахскому фольклору, начиная с Ч.Валиханова, достаточно широко представлены материалы, характеризующие традиционное мировоззрение казахов в плане его космичности, осознания единства человека с природой. Человек – не просто микрокосм, он – манифестация единой силы, центр мира. “Поэт-кочевник постоянно ощущает себя в центре вселенной, и для него не существует микромира и макромира как некоего ирреального состояния, отличного от его собственного… Кочевник склонен видеть в себе и повсюду в окружающем мире проявление единого животворящего начала, наделяющего все, во что бы оно не выливалось, завершенной целостностью. Эо первоначало существует для него как космический идеал (Дуние, Дарига, Жалган, Заман – все эти обозначения космического прстранства и времени прочно вошли в поэтический обиход казахов) и в то же время постоянно присутствует в любой единичности, является ее достоянием”1
Такое бытийное ощущение является отголоском тотемистического мировоззрения как системы тождества, ведь тотем – это не прсто животное-родоначальник, тотем есть форма осмысления мира, космоса, когда “все” и “одно”, единичное и множественное сливаются, единичное служит выражением множественного. При тотемизме “…человек отождествляет своего вожака со всем коллективом людей и каждого…члена группы считает равным другому, а также всем вместе”2 Тотем – это вожак коллектива, его часть и одновременно весь коллектив, а поскольку человеческий мир отождествляется с внешним, с природой, тотем представляет и космос в целом. Сущность этого мышления может быть охарактеризована индуистским принципом “Тат твам аси” (“То есть ты”), и лишь случайно, в связи с тем, что основной деятельностью человека на ранних этапах эволюции была охота, этот принцип получил конкретизацию в виде тотемизма, когда единичное, тождественное множественному, представляется в виде тотема-зверя. Этот образ, соотносимый сознанием с реальным зверем, наполнен в тоже время совершенно ирреальным содержанием. Для архаичного мышления, оформленного в мифе, существует лишь “одно содержание – это космогония, неразрывно слитая с эсхатологией. Она, эта космогония, всегда оформляется метафорой, которая на всякие лады передает образ умирающих и в смерти оживающих тотемов, т.е. героев: инкарнацией всей природы, всех вещей и всех тварей”3.
Тотем-зверь – вожак коллектива и весь коллектив, его отец, родоначальник, глава и тело коллектива, совокупность всех его членов. Отсюда возникает метафора тотема-вожака, убивающего, расчленяющего и поедающего тотема-зверя, т.е. самого себя. Тождество охотника и зверя, субъекта и объекта, смерти и рождения (когда смерть в одном мире означает рождение в другом ), человеческого коллектива и вселенной, лежит в основе ритуального мышления, центральным нервом которого является ритуал жертвоприношения тотема – человека или зверя, — представляющий грандиозный акт перевоссоздания социума и вселенной. “В основе древней символики коллективной трапезы лежала идея демонстрации тождества обоих структур – рода как социального организма и тела жертвенного животного. С другой стороны, глубинная связь символики еды и жертвы заставляет вспомнить нас мифы о сотворении мира, согласно которым Вселенная возникает в результате разделения на части того, что было раньше единым. Эта операция сопровождается утверждением порядка, структуры, а в социальном плане – иерархии, соподчинения. Коллективная трапеза с расчленением туши животного…быть может восходит к неким древним ритуалам, базирующимся на представлениях о первой жертве (первопредке), из расчлененного тела которой возник Космос»4.
Расчленение жертвенных животных использует анатомический код как для оформления социальных структур, когда род осмысливается как единое тело, так и для оформления пространственно-временной структуры вселенной. В связи с пространственно-временным изоморфизмом различные части животноговоплодают не только строение вселенной (голова – верхний мир, туловище – средний мир и т.п.), но и отрезки времени, части определенного временного цикла, чаще всего, года. Как известно, большинство ритуалов связывалось с различными сезонами годичного цикла, а сам год представлялся некоей ипостасью тотема-космоса (отсюда ритуал проводов – а то и убийства-жертвоприношения – старого года и встречи нового). В коллективных ритуальных трапезах казахов, например, наряду с головой жертвенного животного, выделяют двенадцать почетных частей (жiлiк, мүше), которые видимо, ассоциировались с 12 месяцами года (жыл) или 12 годами временного цикла мушеля.
В связи с семантикой жертвоприношения различают два состояния тотема – явленное (тотем-рождение) и неявленное (тотем-смерть). Значение слова “отец” тесно связано с тотемом-смертью: в родовом обществе тотем есть умерший отец всех, родоначальник, а в дородовом обществе отец представляет собой жреца, тотема-вожака, убивающего и расчленяющего тотема-зверя, божество смерти. Умерший тотем – это бог. “У египтян каждый умерший становился богом и получал имя Озириса. Это раскрывает значение бога как мертвеца; он мертвец оживающий, умерший в функции рождения. Бог-отец – тавтологичный образ..Совершенно адекватны бог и царь, бог и жрец…Бог – это тотем, и в нем присутствует образ всей видимой природы. Он – космос, небо, светило, преисподняя стороной своих рождений; но последняя черта более стабилизируется в образе “отца”5.
Герой, как бог и отец, является одним из аспектов тотема, это тотем в состоянии захода, под землей. Обретая со временем антропоморфные черты, герой остается воплощением космоса – умирающего и оживающего, оплакиваемого и восхваляемого, отсюда возникает эпос, отсюда в центре античной трагедии – образы смерти героев, образы схождения в Аид, образы живых мертвецов и умерших живых.6
Если в некотором исходном пункте, характеризующемся темпоральной слитностью, одновременностью, понятия бога, отца, жреца, героя являются, по-существу, тавтологичными, акцентируя внимание на разных аспектах тотема, то с введением временной и каузальной последовательности, возникает тенденция развести эти понятия во времени, связав генеалогически. Именно такова ситуация в эпосе “Алпамыс”, где главное действующее лицо — батыр – принадлежит ко второму поколению, а отец героя — тотем по определению, по своему имени — играет в основной части эпоса лишь номинальную роль.
Отца Алпамыса зовут Байбөрi (Бөрiбай), семантика этого имени очень важна в контексте нашего исследования. Тюркологи в слове “бай” (в современном казахском языке имеющем значение “богатый”, “хозяин”: ср. рус. “бог” – “богатый”) видят значение “первый”, “старший”. Лингвист Е.Н.Жанпеисов усматривает этимологическую связь с алтайским “байлу” в выражениях “байлу ағаш”, “байлу ат” – священное дерево или животное, посвященное духам и предназначенное (в случае животного) для жертвоприношения, запретное животное, не используемое для хозяйственных нужд. Алтайское “байлу” сопрягается с каз. “байлау” (связывать) и может интерпретироваться как запретное (табуированное) или связывающее с тем, кому предназначено (с духами, божеством). У сибирских тюркских народов владыка подземного мира, божество смерти называется Бай Улген (умерший бай). Морфема “бай” включается в фитонимы “байшешек” (подснежник, первый цветок), “байтерек” (тополь, мифологическое дерево, представляющее мировую ось). В кипчакском языке “бай” имело значение “доля” (о доле тотема см. следующий параграф). В общетюркском “байы” означало “заходить”, “закатываться” (о солнце или луне), т.е. “умирать”.
Сама широта семантического поля лексемы “бай” указывает на ее древность и значимость, осевое значение – первый, старший, отец, бог мертвых, доля, светило – имеет отношение к тотемистическому мировоззрению. Тот факт, что в преобладающем большинстве казахских нециклических эпосов морфема “бай” включена только в имена отцов главного героя и его жены (Байбори и Байсары, Токтарбай, Азимбай и Алимбай, Карабай и Сарыбай, Базарбай и Сырлыбай), представляется весьма важным в свете семантики как принципа мифологического имя- и словообразования. Значение, придаваемое вещи или явлению в системе мировоззрения, т.е. его семантика, а не реальные признаки играют решающую роль в процессе называния. Имена персонажей возникали в связи с их семантикой, следовательно, они не просто могут быть расшифрованы, но представляют своего рода сетку координат, помогающую ориентироваться в мифологическом мире.
Имя отца Алпамыса — Байбөрi – дважды содержит указание на его семантику как тотема, поскольку “бөрi” – тюркское архаическое название волка. Көкбөрi – синий (небесный) волк-одиночка – тотем древних тюрков. Образ көкбөрi сопрягается в фольклоре с образом небесной птицы. “Мән”, “шың”, “бөрi” некогда называли небо, высокую синеву”7. Поскольку в современном казахском языке “шың\шын” (в исследовании мифологии для нас важно семантическое поле той или иной лексемы, возникшее в период мифологического мышления, а не нюансы современного ее звучания) означает “высота”, “правда”, “истина”, “мән” — “значение”, “смысл”8, “көк”- не только “синева”, “небсное”, но также и “гармонизирующее начало, принцип”, то и слово “бөрi”, поставленное в этот семантический ряд, получает совершенно особое освещение.
В эпосе Алпамыс и его сын постоянно характеризуются как обладающие “бөрiлiк”, “бөрi заты” (ср. “адам заты”, “перi заты”, “ер заты”) – природой волка, которая обязательно должна проявиться в их поступках (“бөрiлiк қылар”). Это их атрибут, их тотемная сущность. В казахском фольклоре подчеркивается особая связь волка с Всевышним: “Если у собаки есть хозяин, то у волка есть Тенгри”. “Мәңгi көк тәнiр” (переводимое обычно как “вечно синее небо”, “ дух вечного неба”, “Всевышний”) есть образное и несколько тавтологичное выражение того Единого, Первосущего, принципа, придающего истинность и значение конкретным вещам, в которых оно проявляется, и манифестирующего в тех, кто имеет “бөрi заты” – природу волка.
Ритуал жертвоприношения – это центральный нерв тотемистического мировоззрения, и в эпосе “Алпамыс” жертвоприношение представляется несколько раз в тех или иных формах. Прежде всего это изображение ритуальной игры кокпар – козлодрание. Слово “көкпар” является результатом фонетической трансформации слова “көкбөрi”9, и в некоторых вариантах эпоса в этом значении употреблено именно слово “көкбөрi”. Трудно сказать, являлся ли в начальный период объектом игры волк, или она возникла достаточно поздно, когда представления о тождестве жреца и жертвы, убиваемого тотема-зверя и тотема-смерти были утеряны и произошло их раздвоение, закрепление на разных полюсах, и объектом игры с самого начала служил козел. Так или иначе, ритуальная игра, состоящая из соперничества и разрывания животного, получила название по имени тотема (представлялся ли он в этой игре жертвой, жрецом или тем и другим одновременно) потому, что своим истоком она имела именно ритуал жертвприношения тотема или тотему.
То, что жертвой изначально могли быть и люди, подтверждают метафоры кокпара и сцен убийства и расчленения людей: с кокпаром эпос сравнивает сцену, когда Алпамыс в бою рассекает на части своего соперника Карамана (в том варианте эпоса, где Алпамыс и Караман братаются, Караман разрубает своего сына). С кокпаром иногда сравниваются и расправы Алпамыса над Мыстан-кемпир и над Ултаном, в своей видимой жестокости имеющие ритуальный характер. Наиболее прозрачен мотив кокпара – жертвоприношения в сцене, когда Ултан — приемный сын Байбори и, таким образом, названый брат Алпамыса – пытается на своей свадьбе с мнимой вдовой Алпамыса в качестве кокпара отдать на растерзание сына Алпамыса Жадигера, который уже признан обладателем “природы волка”. “Были ли времена, чтобы человека делали кокпаром и разрубали”10- вопрошают старики, и на этот риторический вопрос следовало бы ответить утвердительно.
Тотем, подобно светилу, характеризуется периодическими закатами и восходами, умираниями и возвратом. В завязке эпоса Байбори раздает свое богатство и вместе с женой предпринимает паломничество пешком по пустынным землям, что для кочевников представляет двойную метафору смерти. Его внук Жадигер в отсутствии отца влачит жалкую участь раба, закованного в цепи, что уже у архаических греков было метафорой смерти – ухода в нижний мир. Затем он весьма близок к тому, чтобы оказаться растерзанным в кокпаре. Сам Алпамыс предпринимает два путешествия в иные миры, т.к. для архаического сознания любое путешествие, уход является аналогом смерти, путешествия в иной мир. (Многочисленные мотивы переодеваний, неузнаваний, превращений дополняют мотив путешествия-смерти.)
Здесь проявляется роль отца как божества смерти, рождающего в иной мир: первое путешествие Алпамыс предпринимает для того, чтобы вернуть свою невесту, которая была уведена ее отцом из-за ссоры, возникшей между Байбори и Байсары во время кокпара в честь помолвки детей. Эпос постоянно подчеркивает чуждость, инаковость земли, куда откочевал Байсары, и, более того, его осознанное желание увести и выдать дочь в народ, совершенно противоположный их народу, их миру. Во второе путешествие за угнанными лошадьми Алпамыса отправляет его отец. Пытась этизировать, эпос в этом эпизоде показывает Байбори как сварливого и жадного человека, хотя в обоих случаях цель похода – вернуь утраченную тотемную сущность.
Во втором походе Алпамыса на границе двух миров встречает Мыстан со свитой из сорока девушек, среди которых дочь хана этой страны. На белой кошме девушки поднимают батыра, вносят в прекрасную юрту, ухаживают за ним, угощают изысканными блюдами. Затем они разбирают юрты и звалаливают уснувшего Алпамыса частями и убранством сорока роскошных юрт и поджигают. Не слишком надежный и довольно расточительный способ уничтожить спящего, но зато эта сцена вполне согласуется с логикой ритуального символизма. Вначале Алпамыса – чужестранца, т.е. возможного кандидата в жертвы – делают ханом (ипостасью тотема, до этого как чужак он – антитотем), совершая ритуал поднимания на кошме, а затем подвергают сожжению. Сравните эту сцену с обычаем некоторых народов использовать для кремирования дорогостоящие породы дерева и благовония и обычай выбирать малозначащее лицо – одинокого бедняка, раба, пленника, чужестранца – царем на год, а затем приносить его в жертву. Этот временный царь признается инкарнацией бога или тотема – космического года, который, становясь стариком, убивается, приносится в жертву.
Последовательные попытки сжечь, утопить, повесить на дереве практически неуязвимого Алпамыса – это попытки принести его в жертву стихиям огня, воды, дерева и т.п. В конце концов Алпамыса бросают в колодец, куда не проникает ни один луч света, и который сам Алпамыс сравнивает с могилой. Светило-тотем закатилось, ушло под землю на семь долгих лет, и на земле, в его мире наступает хаос, беспорядок. Лингвисты этимологию слова “тәңiр” связывают с божествами утренней и вечерней зари (наподобие ведийских Ашвинов) и, в конечном счете, с верикальными движениями. Алпамыс не только совершает эти движения восхода и заката, но и , являясь образом мировой оси, осуществляет постоянные перемещения людей и предметов по вертикали.
Сидя в колодце, он выбрасывает из него целый ряд предметов, имеющих в мифологическом мировоззрении богатую семантику как предметов могущественных, воплощающих тотемную сущность. Эти предметы представляют некоторую закономерную последовательность. Итак, Алпамыс выбрасывает из колодца камень (неорганический предмет – использование камня как магического предмета) и приобретает корыстную помощь пастуха, затем кости в виде свирели (органический предмет – кости как воплощение души, жизни, потенциала социума) и приобретает любовь ханской дочери, затем истлевшую, пропахшую потом одежду (культурный предмет – обычай сооружать чучело-заместителя умершего из его одежды) и получает бескорыстную помощь своего коня.
Эта последовательность кажется еще более значимой в свете эпизода, описываемого в сказочном варианте “Алпамыса”: друг батыра узнает о его заточении и приходит к нему на помощь, опустив в колодец аркан. Сначала Алпамыс начинает подниматься, но потом передумывает, перерезает аркан и падает на дно колодца. Логика мифологического мышления такова, что он может и должен спастись лишь одним способом в назначенный час (Ф.Ницше, говоря о преобладающем значении событийной структуры в мифе (трагедии) для его понимания, выразился так, что герои лучше действуют, чем говорят).
Кроме указанных предметов Алпамыс в разное время подбрасывает своего коня (и тот приземляется на четыре ноги, что определяет выбор батыра), перемещает вверх по социальной лестнице своих родителей и сына (которого сажает на своего коня, так что “голова мальчика достигает небес”), пастуха Кейкуата, а также поднимает и вешает на дереве Мыстан и Ултана (о ритуализме этих действий уже говорилось).
Алпамыс, перемещающий по вертикали людей и предметы, переворачивает и целые общества, их социальные структуры. Но если в своем мире он расставляет все по своим местам, то в чужом мире (для которго он антитотем) он осознанно переворачивает социальную структуру вверх ногами: втоптав беков в грязь, он ставит ханом пастуха (ср. ритуалы переворачивания структуры в традиционных обществах во время карнавальных праздников).
Батыр представляет собой прнцип социальнго космоса, и в этом плане герой архаического эпоса сравним с героем античной трагедии. Эпос, ставший одним из источнков трагедии, так же как и трагедия (в отличие от драмы) не психологичен, а онтологичен. Герой должен принять решение и положить его в основу миропорядка. Возникает ситуация, когда “космос и мир перестают нести или вести героя и сами предстоят судьбоносному и космосозидающему решению героя”11.
Герой эпоса, как и герой трагедии, оказывается в ситуации вершащего поворота, смыкания конца с началом. Но герой античной трагедии, с одной стороны, обречен вечно находится в точке трагической амехании (недвижности), потому что он состоит в неразрывной распре со своим прошлым, а, с другой стороны, его решение способно быть творческим, создать некий новый мироустрояющий закон. Для героя-тотема эпоса, по крайней мере в анализируемом случае, ситуация имеет временный, циклический, повторяющийся характер, но батыру не дано ввести новый закон. Как прошлый, так и новый миры определяются принципом, манифестацией которого является герой. Для Алпамыса не ставится под вопрос его “природа волка” (может быть, именно в связи с раздвоением тотемных представлений в родовом обществе, когда роль жертвы и роль жреца разведены для героя-тотема во времени и пространстве, в мирах), он не созидает новый прнцип, но лишь разрушает, восстанавливает или переворачивает тот принцип, ту социальную структуру, с которой отождествляется (возможно, поэтому никогда главный герой казахского нециклического эпоса не имеет имени, включающего морфему “бай”). При этом тотемная природа, тотемная сущность представляется не неотъемлимый свойством индивида,а живым существом, двойником героя-тотема, определяющим уникальность его судьбы.
МЕТАФОРЫ И ДВОЙНИКИ ГЕРОЯ, ЕГО СУДЬБА.
Исходя из понимания тотемистического мышления как системы тождества и редубликации, в предыдущем параграфе эпический герой был представлен как герой-тотем. Герой-тотем как манифестация, персонификация космического принципа обречен на одиночество. Эпос и сам батыр воспринимают одиночество как обязательный удел, судьбу героя, хотя он имеет любящих родителей, сестру, жен, друзей, доброжелательных родичей и советчиков. Даже имея брата, батыр сетует на отсутствие такового (см., например, эпический цикл “Аншыбай и его потомки” в эпосе “Сорок крымских батыров”). Эпический герой одинок по определению, его одиночество эпос прямо сравнивает с одиночеством Всевышнего.
Но это абсолютное одиночество героя-тотема разрушается в силу природы создавшего его мифологического мышления как “конкретизирующего, отождествляющего и редублицирующего мышления тотемиста”, которое стремится воспроизвести, умножить тотемную сущность, конкретизируя, отождествляя и дублируя ее в вещах и свойствах, состояниях и ипостасях героя., превращая их в его двойники. Эти двойники становятся отдельными от человека антропоморфными существами, переходя затем в анимастические представления о существующей отдельно от тела душе. “Душа представляется человекообразной именно в виду ее былой тотемной природы, она может самостоятельно существовать, но ее местопребывание на том свете…Душа выполняет все функции героев-тотемов, покойников, жителей архаической преисподней…”Душа” – архаический дубликат “бога”, былого тотема”12. Поскольку мифологическое мышление выделяет в человеке и наделяет отдельным существованием множество самых различных физических, ментальных и эмоциональных черт, состояний, характеристик его бытия, единственное понятие души недостаточно для их описания. Уже исследователи античного мировоззрения выделяют понятия самого человека, его антропоморфных телесной и духовной душ, гнева-доли, а также некоей божественной силы, вкладываемой в человека и являющейся, по сути, его активно действующей личностью13.
Признаки и свойства, элементы семантики тотема могут воплощаться не только метафорически в виде антропоморфных двойников, но и метонимически, например, в различных частях тела, а также сопутствующих человеку неантропоморфных существах и вещах. “Атрибуты бога (ономастика, вещи, растения, животные) представляют пройденные этапы этого же бога”14, а потому удерживают его семантику, становятся его ипостасями.
Исследователи традиционного мировоззрения тюрков Южной Сибири указывают на крайнюю сложность и комплексность представлений о том, что условно они называют душой: мифопоэтическое сознание наделяет вполне зримыми формами физические и эмоциональные состояние героя, его этические характеристики. Каждый из элементов человеческого естества, подобно стихиям, слагающим космос, наделяется автономным существованием, является необходимым признаком жизни, ее средоточием и, следовательно, вместилищем “души”.Это относится к пуповине и последу, дающим жизнь младенцу, к глазам, представляющим человеку доказательство реальности его существования, к волосам, воплощающим неодолимую силу роста, к большому пальцу, как отличительному признаку человеческого рода, фактически тождественному человеку в целом и т.д.
В качестве двойников-душ человека выступают его телесные характеристики, семантики которых далеко перерастает свое первоначальное или основное значение, что связано с психофизическим изоморфизмом. Например, термин “кут” проходит развитие от значения “оплодотворяющая сила” к удаче, счастью, доблести и др. Наряду с “кут” в тюркской мифологической традиции можно выделить также следующие значения “души” в единстве их физической и психо-социальной семантики:”…соок (кости – ЗН) и тын (дыхание – ЗН) тесно связаны с биологической стороной бытия, это своеобразная анатомия и физиология с точки зрения мифопоэтического сознания, хотя…дыхание непосредственно связано с речевой деятельностью, а особенности костного строения проецируются в сферу личностных качеств человека. Сур (образ, изображние, лик – ЗН) и сюне в большей степени описывают экстерьер живого существа, но и он тесно связан как с психикой, так и с внутренним строением тела. Наконец, сагыш – разум, свойственный только человеку, понятие , почти не обладающее плотью”15. В итоге авторы приходят к выводу о неадекватности понятия “душа” для анализа традиционных представлений. “Человека в традиционном мировоззрении описывает обширный набор классификаторов (маркеров), позволяющих уяснить его место в систематике живого. В мифоритуальном сценарии жизни человека число этих маркеров весьма велико: ведь они должны охватывать все мыслимые и реальные ситуации человеческого бытия. В одном ряду с такими признаками как плодородие, дыхание, зрение, образ, разум и т.п., следовало бы рассмотреть такие понятия как “судьба”, “имя”, “доля”, “удача”, “счастье”16
Маркеры судьба, доля, счастье, удача генетически прежде всего связаны с представлением о жертвоприношении тотема – творении космоса (и социума) из разных частей его организма, что реализуется в ритуале коллектвной трапезы с расчленением и раздачей тела тотемного животного членам коллектива согласно занимаемому в социальной структуре месту. Принадлежащая человеку часть, доля тотема — это и есть его судьба, его доля, его счастье. Именно таковы первоначальные значения корневых слов “он” и “ул” в древнетюркском языке. Имеющий долю в тотеме оказывается правым, удачливым (“он”), он — сын (“ұл”),, принадлежащий к коллективу (“ұлт”), при распределении-раздаче (“үлестiру”) получающий в наследство ұлыс. В алтайской мифологии демиург представляется закройщиком, вырезающим из единой материи отдельные существа и вещи по выкройке, образцу (“үлгi”) Значение “доля” входит и в семантическое поле лексемы “бай”, откуда, возможно, в результате фонетической трансформации произошло “бақ”(“бақыт”) – счастье.
Мифологическое мышление склонно антропоморфизировать свойства или качества, представлять их как живых существ. В казахских сказках неудачник отправляется искать свое счастье и находит его либо в образе белобородого почтенного старца, либо грязного заросшего сонливого существа, но всегда всезнающего и всемогущего. Со времен древних тюрков существовал обычай создавать и хранить в доме тул – куклу-изображение умершего человека – из его одежды и других личных вещей17. Считалось, что душа умершего поселяется в изображении его тела, и тулу приносились жертвы, так что средневековые европйские путешественники приходили к выводу о идолопоклонничестве кочевнков. В современном казахском языке семантическое поле корня “тул\тол” включает значения, связанные с представлениями об общем, целостном виде, физиономии, фигуре человека, о присущей кому-либо манере поведения, силе, а также о смерти, трауре, горе и рождении, родовых схватках и т.п.18
Поскольку представление об “ул” – доле тотема – несомненно содержит значение смерти смерти-рождения19, то и семантика тул\тол непосредственно связана с антропоморфизацией доли-судьбы человека, которая выступает как умирающий и воскресающий, но всегда неизменный двойник, заместитель человека, внешне ему тождественный. Такие представления, связанные с особенностями тотемистического мышления, были характерны и для антчных греков:” Жертвоприношение родовой эпохи насквозь соединено с образом многотипного божества, умирающего и воскресающего. Его обычная форма – кукла, чучело, маска…”20
Тотемистическая (божественная) природа тула делает его бессмертным (его смерти-рождения есть переходы –смены миров и форм существования):” Афанасьев и Потебня показали, что в русском фольклоре “доля” есть огонь и двойник чеовека, отдельное существо, ее топят, бросают в воду, сжигают, вешают”21, т.е. приносят в жертву стихиям воды, огня, воздуха и т.п. Эти манипуляции с долей в русском фольклоре аналогичны тому, что происходит с неуязвимым Алпамысом после того, как он попадает в плен: его пытаются сжечь, утопить, расстрелять, повесить, а, затем, бросают в колодец, под землю.
В алтайском героическом эпосе “Очи-бала” есть эпизод, где главная героиня – девушка-богатырша – во вражеском стане делает из камня свое изображене (тул), сама принимает образ простой служанки (тип трикстера22) и на глазах врагов бросает камень в колодец, так что все уверены, что их враг-богатырша у них в плену. Несмотря на некоторую рационализацию эпоса “Очи-бала”, выразившуюся в частности в мотиве изготовления тула ради обмана, для нас интересен и показателен сам сюжетный ход, событийная структура: герой во вражеском лагере раздвоен – его доля-тул претерпевает всяческие манипуляции (жертвоприношения) и уходит под земля (умирает – закатывается), в то время как на поверхности земли, в среднем мире, среди людей, остается неузнанным (поскольку он добровольно или вынужденно утратил свою тотемную сущность, свою долю) герой или, точнее, одна из его ипостасей, один из его двойников, имеющий прроду трикстера.
Типичный трикстер тюркского фольклора – таз (плешивый), фигурирующий в роли пастуха, слуги, раба, вора и т.п. Стоя вне рамок культуры и общества, таз наделен всеми признаками “инакового” существа, а плешивость (безволосость) только подчеркивает это. Богиня Умай – небесная пряха – прядет нить жизни, нить судьбы каждого отдельного человека. Эта нить, соединяющая человека с небом, переосмысливается в фольклоре как “душа-шелчинка”, как нить (веревка), натянутая поперек пути всадника или его лошади, которую он не должен порвать23, как волосы человека24 или хвост его лошади. В ритуально-обрядовой практике заплетенная коса служила знаком принадлежности к миру людей, мужская косичка-айдар символизировала социальный статус свободного равноправного воина, воплощала его честь, принадлежность к определенному кругу. Быть безволосым (таз) – это значить не иметь души, судьбы, жизни, утратить не только социальный статус, но и связь с космосом, с небом, жизненную силу роста.
Козы-Корпеш, которого Баян должна узнать по золотому айдару, оборачивается в ее ауле тазом и пасет ягнят. Можно предположить, что такой сюжетный ход (отражающий, конечно, движение мифологического мышления) в неявном виде содержится и в эпосе “Алпамыс”, тем более, способность Алпамыса к превращениям продемонстрирована в заключительной част эпоса, когда он возвращается домой неузнанным никем в образе диуаны-гадальщика.25.
В ханстве Тайшика, где Алпамыс (или его доля-тул) пребывает в зиндане26, эпос упоминает двух тазов. Во-первых, это Кейкуат (пасущий козлов) и обнаруживающий местонахождение зиндана. Он помогает Алпамысу выбраться из колодца, а тот делает его ханом (тотемом) вместо Тайшика. Кейкуат по этим и некоторым другим деталям кажется подходящей кандидатурой на роль инаковой, трикстерной ипостаси батыра, но против то, что он остается в ханстве Тайшика, когда Алпамыс возвращается к себе, или, в более общем плане, их параллельное существование в среднем мире. Во-вторых, это плешивый, полубезумный сын Мыстан-кемпир – главного оппонента Алпамыса. О нем эпос не говорит практически ничего, кроме того, что он своим поведенем толкнул дочь Тайшика Каракозаим уйти со свитой в безлюдную степь на поиски Алпамыса. Как и должно, он исчезает бесследно после освобождения Алпамыса. Эпос также указывает на сходство, практическое тождество сына Мыстан и приемного брата Алпамыса – Ултана, лишенного “природы волка”. Алпамыс дважды называет Мыстан матерью, и это не просто вежливое обращение. Мыстан предлагает ханскую дочь Каракозаим в жены и Алпамысу, и своему сыну. Предположение о том, что Мыстан является матерью Алпамыса (или, если угодно, ее инаковой ипостаси) может быть подтверждено не только деталями в сюжете эпоса (которые являются всего лишь отголосками, реликтами), но и анализом антропонимов и, самое главное, оно соответствует логике мифа.
Алпамыс подвешивает на дереве Мыстан27 и своего приемного брата Ултана, а в первом путешествии Алпамыс в некоторых вариантах расчленяет Карамана как кокпар, а в других братается с ним (в таких случаях Караман расчленяет своего сына). Можно предположить, что Алпамыс в изначальном варианте проделывал и то, и другое, т.е. приносил в жертву своего названого брата. В предыдущем параграфе было показано, что в эпосе произошел распад присущего ритуалу жертвоприношения тождества жреца, жертвы и того, кому приносится жертва, раздвоение жреца и жертвы. В этом свете ситуация, когда то Мыстан приносит в жертву Алпамыса, то Алпамыс Мыстан (а также Ултан Алпамыса в лице Жадигера, а Жадигер Ултана) позволяет предположить их первоначальное тождество как архаического мужеженского божества, где женская ипостась имеет более древний характер и может выступать как мать или (и) жена вечно юной, периодически умирающей и воскресающей мужской ипостаси. Нелестные эпитеты Мыстан, достаточно точно воспроизводимые как в поэтических, так и в прозаических вариантах эпоса, при поверхностном взгляде представляются смешными, иногда грязными ругательствам в адрес хитрой, жестокой, властолюбивой, не слишком благообразной старухи, на самом деле символически характеризуют ее как автохтонное и обладающее мудростью веков существо, жрицу древнего культа28. Хан Тайшик, обращаясь к Мыстан, прямо говорит:”Ты – многовидевшая, древняя”. Эпос указывает также на рогатость Мыстан, что в рамках самого эпоса рассматривается как положительный признак, символ мудрости, удачи, счастья, одухотворенности29.
Для мужеженских двойных божеств были характерны созвучные имена. Антропоним “Алпамыс” состоит из двух частей: “алп” –“великан” и “мыс”. В эпосах других тюркских народов можно выделить имена главных героев, образы которых параллельны образу Алпамыса: Бамси-Байрак, Манас, Мангус. Корневая основа имени батыра “мыс” созвучна первой части имени Мыстан. Морфема “мыс” в современном казахском имеет значение “медь”, а также “желание, надежда, стремление действовать, авторитет”30. Авторитет — это власть, опирающаяся на присутствие некоей незримой силы (см. выражения “мысы басты”, “мысы құрыды”, т.е. чей-то “мыс” подавляет “мыс” другого человека) “Таң” – утренняя заря, возможный элемент слова “тәңiр” . Имя же матери Алпамыса – Аналық – переводится как “материнство” и вполне может означать “названая мать” по аналогии с “аталык” – “посаженный отец”.
Таким образом, Алпамыс (или его доля-тотем, сущность) в сопровождение дважды “волосатого” по определению покровителя Баба Тукти Шашты Азиза умирает-уходит под землю, а его инаковая, “безволосая” ипостась, тень, лишенная тотемной сущности, вместе с матерью пребывает на земле. Но отождествляющее и редублицирующее мышление далеко не ограничивается двумя этими ипостасями. Атрибуты батыра – его конь и оружие – как пройденные фазы его эволюции, сохраняют его семантику в целом и одновременно являются неантропоморфными воплощениями тех или иных аспктов его сущности.
В тюркско-монгольском эпосе лошадь батыра выступает как предок, родитель, тотем, молочный брат, воспитатель, спаситель, целитель, хранитель заветного родового оружия, советчик, предвидящий будущее и прозревающий скрытое, владеющий речью и крылатым бегом-полетом. В казахском эпосе образ коня почти полностью эволюционировал от культа тотема-лошади к образу боевого коня, сохранив лишь некоторые прежние черты. В контексте нашего исследования интерес представляют те аспекты образа коня, которые связаны не с рудиментами самостоятельного культа лошади, но с его проявлениями как атрибута батыра-тотема.
Лошадь батыра – тулпар, что может означать “равный, парный тулу, доле-судьбе батыра”. Каждого, кто садится на тулпара Байшубара (о семантике лексемы “бай” см. предыдущий параграф) ожидает особая участь – жертва, хотя стать седоком тулпара можно лишь с разрешения Алпамыса. В трех частях эпоса, кроме обладателей “природы волка” Алпамыса и Жадигера седоками Байшубара были побратим Алпамыса Караман (убивший затем своего сына и своего тулпара), вторая жена Алпамыса Каракозаим (освободившая Алпамыса и тем обрекшая на смерть своего отца хана Тайшика и близких), дядя Алпамыса Култай (после чего убивают его кровного сына Ултана).
Байшубар предназначен только для Алпамыса, он нарочно сохраняет ненпритязательный вид, чтобы достаться только тому, кто выдержит его условие. Суть этого условия-испытания, несколько различающегося в разных вариантах эпоса, состоит в том, что батыр должен подбросить Байшубара в воздух, часто, ухватив за хвост. Батыр узнает тулпара по тому, что тот, пролетев и перевернувшись несколько раз в воздухе, приземляется на четыре ноги. Мотив взаимной предназначенности, признания дополняется мотивом вертикального перемещения (ср. прыжки до небес Тайбурыла в “Кобланды”).
Значимо и то, что батыр должен подбросить Байшубара за хвост, поскольку хвост лошади по семантике сближается с волосами (косой) батыра. Более того, иногда в фольклоре душа батыра (кут или аруах) находится в хвосте его лошади. При трауре у лошади покойного подстригают хвост и гриву. Хвост лошади, как и волосы человека, воплощают связь с небом, а также силу роста, природную силу, жизнь-судьбу как процесс, как имеющую некую последовательность, длительность. Алпамыс в зиндане ждет, пока хвост Байшубара отрастет так, чтобы достичь дна колодца (ср. использование косы как средства вертикального премещения в фольклоре разных народов), и отказывается спастись иными способами (так же как Кобланды выходит из тюрьмы только на зов Тайбурыла).. Ожидание Алпамыса аналогично ожиданию в сказке “Ер-Тостик”: на дне моря Шалкуйрык (в кличке тулпара подчеркнута семантика хвоста – “Быстрый хвост”) близок к смерти – из трех его душ погибли две, но он ждет, пока отрастет его хвост.
Тулпар ожидает появления предназначенного для него батыра, обладающего тулом, а батыр (его тул) под землей ждет срока, когда тулпар будет готов вынести его из смерти. Лошадь батыра, несущая его через пространство-время, оказывается воплощением власти времени над судьбой батыра.
Обязательный атрибут батыра – его оружие, эпос часто отождествляет батыра с его оружием, в частности, с береном (архаическое название кинжала). Если сам батыр сравнивается с береном, то его берен сравнивается с огненным языком дракона. В свою очередь, дракон – распространенная метафора духа (аруаха) батыров. Исследователи античной мифологии отмечают, что архаичная метафора в основе своей обязательно имеет генетическое тождество двух семантик – семантики того предмета, с которого “переносятся” черты, и семантики другого предмета, на который они “переносятся”. Метафора, как и другие риторические фигуры, в логике мифа является не скрытым сравнением, уподоблением, а конкретным существом или предметом. Генетическое тождество метафорического ряда герой – оружие (берен) – дух (сущность) имеет место не только в казахском фольклоре31, но и фольклоре других народов (мотив узнавания о смерти героя по ржавчине на его оружии, мотив смерти от собственного оружия). Однако интересен тот факт32, что среди тюркско-монгольских эпосов только в казахских встречается мотив разговаривания с оружием.
Ж.Дюмезиль выделяет в нартовском эпосе образ героя Батраза – бога (духа) огня, молнии, грозы – и отмечает близость этого образа к образу бога войны саков. Саки поклонялись богу войны в образе меча, а текстуальный анализ эпоса их потомков – осетин – указывает на отождествление стального героя Батраза (его тела) с его оружием – снарядом, мечом, стрелой и т.д 33 ”…Наделенное душой оружие равнозначно самому герою: по воле неба Батраз и в самом деле мог умереть только тогда, когда меч его потонет в волнах”34. Но если в нартовском эпосе происходит прстое, непосредственное отождествление героя и его оружия, то в казахском оно чаще опосредовано введением дополнительного понятия души. Объясняется ли это степенью антропоморфизации образа бога-героя35 или различием движения мысли в метафоре (герой есть его оружие) и метонимии (оружие есть часть, маркер героя, а, потому, необходимое условие его жизни, его душа) трудно сказать.
Представление об оружии эпического героя как носителе его сущности (его духа) позволяет по-новому интерпретировать уже упоминавшийся выше эпизод индоарийского эпоса “Махабхарата”, объясняемый обычно исследователями карнавализацией – ритуалами переворачивания социальных структур и отрицания традиционной этики36. Братья Пандавы (с которыми в эпосе связаны мотивы ритуальных инициаций) прячут на дереве свое оружие (говоря окружающим, что на дереве висит труп их матери), а потом год живут неузнанными даже близкими своими знакомыми. Расставшись со своим оружием, герои не только становятся неузнаваемыми, полностью изменяется их натура: царственный Юдхиштхира становится слугой, мужественный Арджуна – учителем танцев на женской половине дворца (должность евнуха), обжора Бхимасена – поваром. Лишившись своей души – оружия, Пандавы по существу становятся трикстерами.
Итак, определяющие свойства эпического героя представляются не неотъемлимыми характеристиками индивида, а существуют независимо от него, в качестве его двойников, которые могут иметь как антропо-, так и неантропоморфный облик. Таковы тул – неизменная тотемная сущность героя, доля тотема, таз – инаковое теневое существо, лишенный тотемной сущности трикстер, тулпар – доля-судьба как изменяющаяся со временем ипостась, оружие (в частности, кинжал) как метафора батыра в целом, метафора его души-жизни. Алпамыс в единстве со своими двойниками представляет мужскую, юную и батырскую ипостась того Единого, что в образе Мыстан представляется как женское, древнее и шаманское.
Как было показано в предыдущем параграфе, герой казахского эпоса обладает чертами тотема, он является персонификацией вечной божественной силы, и в качестве таковой выступает как мировая ось, центр и принцип социального космоса, определяющий его структуру. Отношения между эпическим батыром как тотемом и социальным космосом метонимичны, он является частью и одновременно представляет целое, он находится в центре ритуала жертвоприношения, воссоздающего творение вселенной и основанного на системе тождества (жреца, жертвы и божества, пространства-времени ритуала и пространства-времени творения мира, действий, слов и мыслеобразов участников ритуала божественных участников первотворения), выстраиваемого культурой. Он сам есть Тождественное этой культуры, тот принцип, с помощью которого культура видит и определяет себя изнутри.
Батыр не просто обладает тотемной сущностью, но обладает определенной ее долей, мерой (ул), а представленная в эпосе система его метафор-двойников есть тот конкретный способ, которым казахская традиционная культура измеряет и сравнивает, “…устанавливает близость между вещами, картину их сходств и порядок, согласно которому их нужно рассматривать”37 . Иное культуры, т.е. то, что ограничивает и определяет ее извне, являясь одновременно внутренним (как изначально слитое с Тождественным), и вместе с тем чуждым (так что никакое возвращение к Первоначалу не способно выявить в Тождественном момент, когда отщепление Иного не произошло) представлено в образе шамана.
Шаман метафоричен культуре, с которой он связан. Он не есть, подобно батыру, человеческий мир, он вне коллектива и вместо него, предстательствует за него в других мирах.Он существо пограничное, принадлежащее одновременно нескольким мирам и не принадлежащее ни одному из них, он перманентно лиминален. Если батыр связан с ритуалом жертвопрношения, основанном на системе отождествлений и определяющем центр мира, то шаман – с представлением о жертвоприношении не человеческого коллектива, а ино-существ, с мифом – границей данной культуры, с системой метафор, системой переноса смыслов из иного мира в этот. Ритуалом шамана является миф – создание мифа, произнесение мифа, ино-говорение космоса.
Существование героя-тотема нормативно, он обладает определенным обликом, определенной долей тотемной сущности, определенной судьбой. Единое манифестирует через него таким образом, что он остается в себе, в рамках своей индивидуальности и культуры, тогда как шаман – существо экстатическое, выходящее из себя, чтобы слиться с Единым.
Представленное здесь соотношение эпического батыра и шамана как Тождественного и Иного имеет несколько абстрактный характер. Прежде всего эпос создается шаманом, который часто выступает как сказитель – жырау. Таким образом, эпический батыр – видение шамана (подобно тому, как герой античной трагедии представляет, согласно некоторым интерпретациям, видение трагедийного хора, а Дионис – видение участников мистерии), метафора странствий его души: эпический батыр телесно путешествует в “иных” мирах, где шаман во время экстаза пребывает лишь душой, оставив на земле тело. Можно сказать, что шаман выполняет функции Тождественного через сказительство эпоса. В реальности эту функцию поддержания принятых в коллективе норм выполняет если и не батыр, воплощающий эти нормы в самом себе, то сведующие старики, акыны как представители родового начала,возглавляющие многие обряды. Само расщепление Первоначала по оси Батыр-Шаман (а не мужское-женское, юное-старое,например, что также вполне осуществимо) и анализ казахской культуры в соответствующей плоскости является, прежде всего, результатом авторского предпочтения, хотя и коренится в конкретном культурном материале.
Определение шамана как Иного тому Тождественному, что представлено в герое-тотеме, отсылает к некоей предельной точке тождества, где Тождественное и Иное неразличимы. В анализируемом эпосе эта точка тождества отсутствует, однако таз – лишенный тотемной сущности двойник батыра, выброшенный на маргиналии человеческого общества, может рассматриваться как мостик, момент расщепления Тождественного и Иного. (В то время как образ его матери Мыстан-кемпир вполне может интерпретироваться как образ шаманки, точнее, ино-мирного существа). Безволосость таза сравнима с традицией пострижения (выбривания всей головы или тонзуры) в служители культа во многих восточных и западных религиях как символ отказа от человеческой природы и судьбы. Узнаванию таза или нахождению тула, возвращению к истинному облику в различных эпосах часто предшествует мотив гибели (калечения) козла (ягненка). Слово “таз” является однокоренным со словом “таза” – чистый, что позволяет предположить связь образа таза с мотивом козла отпущения38 – жертвоприношением как очищением (люстрацией) социума, когда жертва (козел отпущения) олицетворяет негативное коллектива, призванное взять на себя и унести из человеческого общества (“этого” мира) всю грязь, зло, грехи и т.п.
Подобно козлу отпущения, таз подвергается всеобщему поношению и осмеянию. Затем, за пределами человеческого коллектива происходит гибель козла (метафора жертвоприношения козла отпущения), и таз обретает свой истинный облик почитаемого героя-тотема, подобно тому как принесенный в жертву козел отпущения сразу становится предметом обожествления и восхищения. Наиболее четко такая линия прослеживается в эпосе “Козы-Корпеш и Баян-Сулу” в сцене узнавания двушкой нареченного жениха : любимый ягненок Баян сломал ногу, и она осыпает упреками пастуха-таза, который, не выдержав поношения, открывает свой истинный облик.
В “Алпамысе” батыра (его тул) обнаруживает пастух-таз, когда два козла падают в колодец к Алпамысу. Пастух отдает на съедение батыру сто козлов, прежде чем тот появляется на поверхность земли. В “Алпамысе” вместе с редубликацией образа батыра произошло и умножение образа таза: кроме пастуха и сына Мыстан, существует еще и Ултан, похожий на сына Мыстан как две капли воды. В заключительной част эпоса Ултан дважды тщетно пытается совершить жертвоприношение через кокпар, затем он подвергается поношению в айтысе Алпамыса и косноязычных женщин, воспевающих “хана Ултана” (поношение, так же как и косноязычное воспевание для архаичного мышления тождественно убийству), бежит от мести Алпамыса. После ритуального убийства Ултана в человеческом коллективе воцаряется порядок и покой.
Разделение (разрыв) двойников-ипостасей батыра происходит в результате его жертвоприношения как тотема, т.е. как Тождественного, и ухода под землю его тула – тотемной природы. Так появляется таз – инаковая ипостась батыра. Принесение в жертву таза – козла отпущения – возвращает в мир людей тул, эпического батыра в единстве его атрибутов-ипостасей.Подобная схема действительна и для шамана (см.параграф 2 гл.2)
Точка тождества батыра и шамана не только потенциальная, она реальна исторически: для древнетюркского общества типична фигура шаман, камлающего, не впадая в экстаз и представляющего в своем лице духовного, светского и военного лидера имперского масштаба. Обращение к эпосам некоторых родственных народов Сибири позволяет выявить образ батыра-шамана (более распространенный вариант – владение батыром некоторыми шаманскими приемами). Если бы целью нашей работы была интерпретация древнетюркской, общетюркской и т.п. культур, то эта предельная точка действительно была бы исходной в исследовании. Однако эта точка тождества находится вне исторических и мировоззренческих рамок, вне пределов казахской культуры, для которой этого тождества не существует, и для которой именно невозможность достичь этой точки стала онтологичной, определяющей ее специфичность.
Мысль М.Фуко о маргинальной европейской культуре ХХ в. звучит актуально в контексте традиционного казахского мировоспрятия:”…первоначальное в человеке не возвещает ни о времени его рождения, ни о древнейшем ядре его опыта – оно связывает человека с тем, что существует в ином времени, нежели он сам”39. Человек захвачен и отторгнут от первоначального тождества силой, которая расщепляет его и которая принадлежит его собственному существу. Эта сила – время. Попытка подвергнуть сомнению время, приостановить его хотя бы в мысли, а, значит, вернуться к Первоначалу, является истоком казахской культуры как таковой. Эта попытка сделана Коркутом40 – учителем и божественным патроном казахских баксы, кюйши, жырау, — и казахская культура всегда возвращается к его образу, потому что он – ее Иное, ставшее Началом.
Глава П.
МИФ О КОРКУТЕ КАК МИФ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
АНЫЗ О КОРКУТЕ КАК МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ.
Этот параграф посвящен анализу аныз (легенд) о Коркуте, которые рассматриваются как мифологические тексты, т.е. как тексты, содержащие систему метафор, в которых казахская культура передает смыслы, основополагающие для любой культуры. Время, Первоначало, Бытие, Смерть…Гордиев узел этих вечных вопросов пытается развязать Коркут – бегущий от смерти, ищущий мир, где человек бессмертен, отставший от каравана жизни, созидающий музыку, от звуков которой замирает мир, плавающий по реке Сыр, которая есть “пуп” земли, река жизни и дорога смерти.
Восстановить (прояснить) полно и адекватно смыслы, заложенные в аныз о Коркуте, невозможно по целому ряду причин, и их интерпретация, предлагаемая ниже, достаточно гипотетична. Но она не являтся произвольной: культура в совокупности своих проявлений представляет единый текст. Эо не линейная цепочка, а многомерное пространство, в котором сцепляются и перекрещиваются тысячи нитей. Восстанавливая ткань, интерпретатор соединяет обрывки, согласуясь со структурой ткани, орнаментом и т.д. В работе мы ориентировались не только непосредственно на тексты аныз о Коркуте, но и на другие фольклорные произведения, сведения о сохранвшихся вплоть до ХХ в. традициях и представлениях, языковые данные, исследования по древнетюркской культуре, традиционному мировоззрению родственных народов Сибири.
Древнетюркские шаманы, для которых лечение было лишь одной из многих функций, имели наследников в двух ветвях: сибирские тюркоязычные народы, претерпевшие реархаизацию, и народы, распространившиеся от Алтая до Малой Азии, многие из которых почитают своим духовным патроном Коркута. Согласно казахским источникам, одного из ближайших предков Коркута звали Кам, что по древнетюркски означает “шаман ( само слово “шаман”, широко используемое в мировой литературе, является трансформацией слова “кам”). Для казахов Коркут – прародитель и покровитель баксы, жырши, кюйши, создатель кобыза и кюев для него.
Существует множство вариантов объснения его имени:
Народная этимология связывает его со словом “пугать” (“қорқыту”), т.к. рождение Коркута происходило при необычных обстоятельствах;
Разбивая имя на два слога, исследователи второй слог более или менее единогласно возводят к древнетюркскому “құт” — “душа, сила, счастье, благо”, а первый слог толкуют многозначно : несчастье, могила, видеть, хранилище. При этом согласно О.Фрейденберг значения “могила” и “хранилище” могут быть сближены: нечто, подобно посеянному зерну, умерло, скрылось под землю, чтобы возродиться и увеличиься.
Элементами имени считают название племени “хор-огузы” и суффикс “кут”, обычный для образования этнонимов (ср. якут, иркут).
Этимологизация в подобных случаях – дело достаточно субъективное, и различные варианты не опровергают друг друга, а скорее сочетаются по принципу дополнительности. Возникновение антропонима Коркут может быть также связано с названием кобыза у некоторых сибирских народностей – “хорхут”. В фольклоре самых разных народов образ Коркута тесно связан с мотивом изобретения и игры на кобызе.
Коркут, являясь наследником древнетюркского шаманства, как бы связующим звеном между ним и (условно) казахским шаманством, т.е. шаманством тюркоязычных народов, вырвавшихся на просторы великой степи, как бы выпадает из этой цепи. Шаманству он принадлежит не только по роду жизнедеятельности, но и, прежде всего, по праву рождения. Однако легенды изображают его жизненные искания так, будто для него абсолютно не существовали представления о мироустройстве, времени, пространстве, человеческой душе, жизни и смерти, присущие его времени.
Уникальность аныз о Коркуте, пафос которых в борьбе человека со смертью, состоит не в том, какие проблемы они рассматривают, но в том, как это делается. Рождение, смерть, отношение старого и нового всегда были содержанием архаичных мифов, но сами эти понятия не были абсолютными: все является смертным, но смерть есть лишь особый вид жизненного состояния, неявленное бытие, связанное с временной потерей качества, с переходом в другой мир, за которым неизбежно следует возвращение в этот, смерть в этом мире означает рождение в другом.
Умирает высокая гора,
Когда вершину ее скрывает мгла.
Туча в синеве умирает,
Когда не может перевалить через гору.
Луна и солнце умирают,
Когда они склоняются и закатываются за горизонт.
Большое озеро умирает
Когда оно покрывается льдом.
Черная земля умирает,
Когда она остается под снегом…
Для такого мировосприятия, выраженного Бухар-жырау, мысль о смерти в могиле, об абсолютной смерти гораздо более странна и неприемлима, чем широко распространенная в фольклоре идея рождения в могиле (см., например эпос “Кероглы”). Но для Коркута смерть абсолютна и окончательна, он как бы выпал из круга вечного возвращения, и время для него не циклично, а линейно. Возможно, образ Коркута связан с кризисом архаического шаманизма, влиянием мировых эсхатологических религий (иудаизм, христианство в несторианском варианте, ислам): Коркут бежит от смерти в понимании этих религий (смерти абсолютной в образе ангела Азраила или в образе могилы) и скрывается в смерти в ее традиционном понимании (образ реки). Коркут вступает в противоречие не только с идеологией шаманства, но и с его практикой: шаманство -–институт социальный, а Коркут живет и умирает вне человеческого коллектива.
С этим совершенно уникальным положением Коркута в (или даже у истоков) и, одновременно, вне традиции шаманства связан особый характер аныз – легенд, сопровождающих обычно кюи Коркута и рассказывающих об обстоятельствах их появления. Важной и отнюдь не формальной задачей является определение жанровой принадлежности этих аныз, которые далеко перерастают за рамки исторических повествований или быличек, т.к. с ней связано определение функций аныз в идеологии и практике шаманства. Особенность аныз о Коркуте проявляется уже при первом сравнении с сибирскими шаманскими легендами. Шаманские легенды тюркоязычных народов Сибири рассказывают о различных случаях, когда (с положительным результатом или без такового) люди прибегают к помощи шамана. Согласно Е.Н.Новик, такие повествования содержат информацию о случаях медиации (коммуникации) между человеческим коллектвом и сверхъестественными существами и, таким образом, снабжают участников коммуникации информацией о том, как они должны поступать, что от них ожидается, как должен происходить ритуал. Подобная шаманская легенда находится вне рамок ритуала, но несет о нем полезную информацию.
Если рассмотреть в этом плане аныз о Коркуте, они не несут никакой информации о ритуале камлания. Более того, в них не предпринимается даже попытка медиации, чаще всего отсутствуют и сверхестественные существа. Коркут не является главным действующим лицом, а, зачастую, вообще не участвует в описываемых событиях. Если он предпринимает какие-либо действия, то чаще всего они заканчиваются неудачно. Создается впечатление, что аныз о кюях, обладающих чудотворной силой, как бы подчеркивают бессилие Коркута, даже в тех ситуациях, в которых он по логике развития рассказа или по сведениям из других легенд, должен был бы положительно решить проблемы.
Аныз о Коркуте не играют значимой роли внутри ритуала камлания и не несут информации о нем. Казалось бы, это просто истории, исторические повествования. Но что позволяет им занять столь важное место в общественном сознании, сохраниться в устной культуре в течение, по меньшей мере, тысячелетия? Странность образа Коркута соответствует странности аныз о нем. Мы попытались проанализировать аныз, рассматривая их как мифы, точнее, как мифологические тексты, вторичные знаковые системы.
“Лебедь”. Это один из вариантов объяснения того, как был создан кобыз. Коркут мальчиком увидел, как охотник убил одного из пары лебедей, гнездившихся на озере. Охотник унес с собой добычу в дом, а Коркут стал свидетелем страданий и смерти второго лебедя. Потрясенный мальчик делает из дерева инструмент, по форме напоминающий птицу и, явившись в дом охотника, исполняет на кобызе кюй, повествующий о любви, безмятежном счастье и горе.
Таким образом, вначале существует равновесие, гармоническое единство. Охотник разрушает его, убив первого лебедя. Коркут в виде кобыза воссоздает лебедя, но не первого – убитого охотником, а второго – горюющего и умирающего. Принеся затем кобыз в дом охотника и играя на нем, он как бы восстанавливает единство. Тело убитого лебедя и горюющий о нем лебедь-кобыз встречаются в доме человека, разрушившего их жизнь. Образ лебедя семантически весьма насыщен: для казахов это священная птица, птица-тотем, уносящая души умерших. Это птица , следовательно, представитель верхнего мира, но птица водоплавающая, т.е. вода связывает ее с нижним миром. Змеиная форма головы и шеи, змеиная гибкость шеи также отсылают к представлениям о существе хтоническом. Амбивалентен и белый цвет птицы. Коркут изменяет характеристику лебедя как существа, связанного с нижним миром: в кобызе исчезает змеиная подвижность ши, разрывается связь с водой. В этом акте свою роль играет и охотник, ведь смычок тождественен его луку. Лебедь принадлежит верхнему и нижнему мирам. Это миры смерти. Лебедь – идеальный медиатор, медиатором становится и кобыз-лебедь. В корпусе кобыза закрепляется зеркальце, служившее точкой перехода в иной мир.
“Вой Ушар”. У пожилой женщины-вдовы умирает единственный сын-охотник. После похорон аул откочевывает на другое место, где женщина обнаруживает пропажу гончей собаки сына. Она возвращается на прежнее стойбище и видит Ушар, воющую на могиле сына. Несчастная мать присоединяет свои причитания к вою собаки.
Женщина со смертью сына теряет свое определение, перестает быть матерью, также как гончая перестает быть гончей, потеряв хозяина-охотника. Мать кочует, уходит, расстается с могилой сына, что в данной ситуации можно отождествить с забвением. Своим исчезновением Ушар напоминает ей о сыне и возвращает к нему. Имя гончей – Ушар – означает “летающая”. Этнограф А.Диваев записал легенду об Ит-ала-қаз (собаке-пестром гусе): существуют птицы, которые откладывают яйца в гнездах на вершинах одиноких мазаров, стоящих на вершине гор в безлюдных и безводных местах. Птицы улетают, не высиживая яйца. Из них выводятся щенки, в большинстве своем погибающие от жажды и голода. Выживший щенок становится крылатой гончей Кумай. Гончая собака аналогична волку, др. хищникам, терзающим копытных животных, т.е. существу, связанному со смертью, с подземным миром. Кумай – мифическая гончая – выводится в гнезде над мазаром в пустыне, т.е. месте, дважды связнном со смертью-переходом в верхний мир: верхняя часть вертикальной структуры (вершина мазара на вершине горы) и, кроме того, мазар воздвигается над могилой почитаемого человека, душа которого уходит в верхний мир. Кумай крылата. Некоторые авторы слово “Кумай” считают фонетичеким вариантом имени “Умай” – богини плодородия у тюрков, подательницы детских душ матерям, покровительницы младенцев. У скотоводов-кочевников, в отличие от земледельческих народов, богиня плодородия является небесным божеством. Таким образом, гончая по кличке Ушар связана со смертью-переходом в верхний мир и с рождением. Она связывает мать с ребенком, с умершим сыном, является медиатором жизни и смерти. Маь осознает это: увидев исчезновение собаки, она говорит, что потеряла память сына (“баламнын көзiн”), и возвращается на могилу. Ушар своим исчезновенем как бы возвращает мать к сыну, жизнь к смерти, и, если учитывать явную связь ее образа с богиней Умай, согласно логике мифа и мировоззрению шаманства, она должна вернуть матери сына: либо оживив умершего, либо дав его душу какому-нибудь младенцу. Но вопреки очевидности, этого не происходит, что позволяет еще раз подчеркнуть: аныз кюя Коркута не имеет никакого отношения к шаманским легендам.
К.Леви-Строс в своих работах неоднократно обращается к вопросу о трансформации и инверсии мифа. В двух частях сказки “Мечта матери”, которая по существу является аныз одноименного кюя для сыбызги, представлены инверсии двух аныз о Коркуте – “Вой Ушар” и “Страдания привязанной лани”. В сказке рассказывается о молодой бедной вдове, имевшей маленького сына и обратившейся за помощью к хану. Тот приставил женщнну ухаживать за собаками на псарне, а сына – пасти овец. Оберегая ночью на псарне сон сына, униженная женщина сочиняет песню о горькой судьбе. Днем в степи мальчик наигрывает на сыбызге песню своей матери. Лань и два ее детеныша, слушая эту песню, подружились с мальчиком и стали танцевать под его наигрыш. Увидев это, ханский сын под угрозой расправы требует привести во дворец хотя бы одну танцующую лань. Лань отправляет во дворец одного из своих ягнят. Но тщетно придворные музыканты играют на сыбызге мальчика, пытаются заставить танцевать ягненка. Тогда пастушка приводят во дворец, и ягненок танцует под грустные звуки кюя “Мечта матери”. Растроганный хан выполняет просьбу женщины и отпускает ее вместе с сыном на волю. Присоединившись к лани и ее детенышам, мать и сын бродят по свету, всюду исполняя “Мечту матери”.
“Вой Ушар” и “Мечта матери” (в первой части) включают таких персонажей, как вдова, ее сын и собаки. Но в одном случае речь идет о единственной гончей, в другом – о множестве собак на псарне. Сын в разных случаях – взрослый\ребенок, охотник\пастух, свободный\раб (слуга), мертвый\живой. Мать живет в своем ауле среди родичей\ на псарне в ханской ставке. В “Вое Ушар” сын постоянно находится на одном месте (в могиле), а мать уходит и возвращается. В “Мечте матери” мать постоянно находится на псарне (образ нижнего мира), а сын уходит и возвращается. Кюй в одном случае начинается воем Ушар и продолжается плачем матери, в другом – мать сочиняет песню, а сын выучивает. В итоге, в “Вое Ушар” мать возвращается к сыну и собаке, а в “Мечте матери” мать и сын уходят от собак, свободны. Зеркальная симметрия структур двух повествований очевидна, но не существует столь же очевидной интерпретации этой симметрии. Один из возможных варантов : противопоставление смерти-перехода в верхний мир (гончая Ушар) и смерти-перехода в нижний мир (псарня), связанное с противопоставлением кочевья-ставки, охоты\пастьбы, взрослости\детства, свободы\рабства. В сказке оппозиция жизнь\смерть смягчена до оппозиции свобода\рабство, но, возможно, это связано с представлением о рабстве как смерти-переходе в нижний мир.
“Страдания привязанной лани”. Коркут понимал язык птиц и зверей, как-то раз он услышал просьбу пойманной лани к охотнику отпустить ее хотя бы на краткое время, иначе двое ее детенышей, не научившиеся еще есть траву, будут обречены на смерть. Поймавший лань человек собирается зарезать ее и, несмотря на просьбы и предложения Коркута о выкупе, отказывается освободить ее. Тогда Коркут остается в залог вместо лани, которая встречается с детенышами, учит их и возвращается, чтобы освободить Коркута и умереть.
В этом аныз, кроме охотника, действуют следующий персонажи: лань, ее детеныши и Коркут. В “Мечте матери” – лань, детеныши, мальчик. На первом этапе Коркут замещает собой лань, оставшись у охотника, а та уходит на свободу к своим детям\ один из детенышей лани замещает в ставке хана мальчика, оставшегося в степи. На втором этапе лань возвращается на смерть\ мальчик отправляется к хану. В итоге Коркут жив, также как и ягнята, лань же погибает\ все получают свободу. В зеркально симметричных структурах соотносятся Коркут и ягненок, привязанная лань и мальчик
В “Страданиях привязанной лани” лань умирает. Есть легенда, рассказывающая о том, как Коркут, соревнуясь с миссионером религии пророка Мусы (иудаизм) оживил своей музыкой уже съеденную лань. Но в данном аныз, как и в “Вое Ушар”, явно опущена возможность такой благоприятной концовки. (Далее в тексте диссертации стрктурно-семантическому анализу подвергнуты аныз кюев “Пестрая телка”, “Сарын”, “Хромая девушка”)
“Желмая”. Неразлучный спутник Коркута – крылатый одногорбый верблюд, которому дано сверхъестественное знание и который мог бы унести Коркута от смерти, если бы он ее не вспоминал. Но Коркут не может уйти от смерти даже в мыслях, и на берегу Сыр-Дарьи он зарезает желмая, а из шкуры делает кобыз, в некоторых вариантах, ковер, который расстилает на воде).
Верблюд в казахской традиции символизирует предначало мира, а также его завершенность, единство трех миров (Ж.Каракозова). Известное выражение, связывающее небывалую радостную новость с разрыванием живота белого верблюда связывает семантику верблюда с космогонией. Белый верблюд (его шкура) занимает важное место в ритуальной практике, воссоздающей космогонические представления. У сибирских тюркоязычных народов существует понятие “тын-бура”, означающее душу шамана, его силу, воплощенную в животном. При этом “тын” означает душу в виде дыхания, ветерка, воздуха. Если “бура” – название верблюда, то существует непосредственная связь между “тын-бура” и “желмая”(“жел” – “ветер”) – традиционным казахским названием ездового верблюда пророков и вдохновенных личностей.
Желмая может унести Коркута от смерти, но двойная ноша (Коркут вспоминает о смерти, несет мысль о ней с собой) ему не под силу: предначало содержит возможность, виртуальность разных миров, а Мысль и Слово Коркута о смерти реализуют именно эту возможность. Поэтому желмая не удается найти-создать мир, где нет смерти. Коркут убивает (жертвует) желмая, уничтожая тем самым старый мир. Из шкуры желмая создается кобыз, к которому, таким образом, переходит значение желмая как ездового животного, силы-души шамана, как единства и гармонии исчезнувшего мира и залога нового.
Теперь Коркут живет на ковре посреди воды подобно Творцу, которому только предстоит творение мира. Символика воды амбивалентна:
река, текущая в нижний мир;
вода первотворения.
Космогония тюрков Южной Сибири изображает мировой океан-даик (каз. Жаиқ), из пены его волн или из ила, поднятого с его дна, была сотворена земля. Сыр-Дарья в аныз названа “пупом земли”, т.е. явственна семантика рождения нового мира. В традиционном казахском мировоспрятии существует изоморфизм дерева и реки: “древнее значение лексем ағаш, тал, терек и т.п., выражающих идею воды, ныне сохранилось лишь в фитонимах”, множество современных гидронимов на территории Казахстана содержит элементы ағаш, тал, терек, бұтақ. Дерево и река представляются образами центра (“пупа”) земли, мировой оси, соединяющей миры: исток реки\верхушка дерева находится в верхнем мире, а устье\корни ведут в нижний мир. Возможно, в таком представлении, когда на поверхности земли проекция мировой оси представляет не точку, пусть и множественную, но некую подвижную, текущую, непрерывную линию, отражается кочевой менталитет.
Не только для Коркута, но и его последователей – баксы – характерно стремление играть на кобызе, сидя у реки или корней дерева. В Казахстане существует множество гидронимов, связанных как с именем Коркута, так и с именами других знаменитых баксы. Устье (ноги) Сыр-Дарьи в фольклоре называют ногами Коркута (“су аяғы ер Қорқыт”).
Быстротекущая, изменяющаяся жизнь выступает для Коркута не только в образе речного потока, но и в образе уходящего за горизонт каравана, от которого отстал он — одинокий путник. Рефреном “Книги моего деда Коркута” проходят слова:
Все они пришли в этот мир и ушли,
Подобно каравану поселились и откочевали,
Их взяла смерть, поглотила земля,
Лишь обманчивый мир остался после них.
Мир приходит и уходит,
В конце концов мир смертен.
В нескольких строках соединены два представления о времени: сначала бытие рисуется как нечто, неподвластное времени, пространство, по которому кочует и исчезает за горизонтом человек. Но последние две строки переворачивают картину, определяя само бытие как смертное, преходящее. Это амбивалентное представление о времени как связанном с движением человека движением бытия широко распространены в народном мировоззрении казахов: человек – на краткий миг гость в этом мире, но и сам мир (бытие) короток, человек гонится за миром, а смерть преследует человека; не человек проходит черз мир, но мир проходит через человека.
Коркут, плавающий по реке жизни и смерти, как бы невидимой стеной отгорожен от того, что происходит на берегах. Его жизнь на воде и жизнь на суше – это два мира, два неслиянных времени. Музыка Коркута льется непрерывно как течение жизни, но жизнь эта замирает, останавливается, завороженная чудесными звуками.
Выше, при анализе аныз “Лебедь”, “Пестрая телка”, “Сарын”, “Хромая девушка” было продемонстрировано противопоставление подвижного и неподвижного (превращение первого во второе). Возможно, противостояние и взаимопереходы этих важнейших для кочевника характеристик есть тот глубинный смысл, который призваны передать разнообразные метафоры бытия, смерти, времени. Кюй изображает жизнь как внутренне неподвижную, неподвластную времени, его образы (даже самые динамичные, напрмер, образ скачки) статичны, они изображаются как состояния, а не как процесс. Для кюя нет развития, нет прошлого и будущего, он погружен в переживание настоящего. Время в кюе весьма своеобразно, “его можно передать либо как растянутое мгновение, либо как фрагмент застывшей вечности”. Такое отсутствие процесса развития, недвижная одновременность событий составляют, по выражению О.М.Фрейденберг, душу мифологического мышления. “Миф всегда относится к событиям прошлого: “до сотворения мира” или “до начала времени”, во всяком случае, “давным-давно”. Но значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в определенный момент времени, существуют вне времени”. Миф, как и музыка, уничтожает время, это “вспышка вечности”.
Коркут – создатель мифа, он рассказывает-исполняет кюй-миф и при этом останавливает мир, вводит его в мифологическое время, которое есть вечность, возвращение к началу. Но Коркут не только создатель кюя-мифа, но и герой мифа-аныз. Эти аныз есть мифы культуры, принявшей время как линейное, а не циклическое, осознавшей существование времени как силы, неотвратимо несущей человека и мир вдаль, от истока к устью, от начала к смерти. Аныз о Коркуте содержат метафору реки-дерева-человека (Коркута), реки-музыки-времени не просто как образов некоей мировой оси, пронизывающей верхний, средний и нижний миры, но как границы жизни и смерти, границы двух неслиянных миров. Эта граница не только разделяет миры, но и связует их: кюи Коркута – человека, не принадлежащего ни к живым, ни к мертвым, — превращают поток времени в океан первотворения, останавливают время, возвращая мир к его истоку. Аныз о Коркуте – это мифы о мифологизаторе, разрушившем миф о вечном возвращени и утвердившем вечность творчества.
ШАМАН КАК ИНОЕ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Каждая культура создает свой миф, представляющий собой “…систему значимостей (метафор), которые не связаны причинно-следственной связью, а в равной мере обозначают, хотя и на различный лад, основной смысл (образ) мифа”. В мифах разных времен и народов всегда есть нечто общее, определяемое структурой бессознательного (К.Леви-Строс), имагинитивной логикой (Я.Голосовкер) или логикой тотемистического мышленя (О.Фрейденберг). Содержанием мифа в конечном счете является космогония как манифестация единого творческого начала, а также его раздвоение, возникновение времени и смерти. Но, тем не менее, каждая культура в меру своей уникальности творит собственный миф (или миф творит культуру), как-то особенно выражая вечные вопросы.
“Без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы: лишь обособленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в некое законченное целое”. Миф определяет, ограничивает культуру, замыкает ее в единое целое, противополагая этому миру мир иной (подземный или небесный, мир небытия, смерти или бессмертия). Основные вопросы бытия (т.е. этого мира), рассматриваемые в мифе – это в конечном счете вопросы отношения двух миров, вопросы из этого мира об ином (время и вечность, начало, смерть). Миф представляет собой метафору, т.е. перенос смысла, представления, ценности и др. из некоего другого мира в этот: миф о Прометее — миф о перенесении огня с Олимпа к людям, миф о грехопадении – миф о прародителях человечества, изгнанных из рая на землю. Мифом казахской культуры является миф о Коркуте (или миф Коркута), герой которого выступает не только как странствующий и познающий этот мир, но прежде всего как созидающий его, как демиург. Коркут, живущий на границах двух миров, двух времен, переносит кюй, рассказывающий о смерти, боли, радости. Кюй Коркута, подобно древнегреческому Логосу, является не только словом о мире, но и словом, голосом, речью этого мира, а также его первопричиной, его законом. Казахское “күй” является фонетической трансформацией древнетюркского “көк” – небо, Всевышнее, истина, закон, гармония.
Уже в древнетюркской культуре шаман выступает как творческая, созидающая ипостась Единого. “…В акте камлания универсально вопроизводящем процесс структурирования вселенной, шаман как бы играет роль демиурга” Средневековый монах Плано Карпини, описывая свое путешествие к монголам через евразийскую степь, описал веру кипчакских племен в безличное единое божество, а также обряды поклонения природе и духам предков. Комментаторы усматривают лишь одну ошибку в его описаниях: П.Карпини пишет, что кипчаки своего бога называют Кам, т.е. шаман. Ошибку эту объясняют тем, что Карпини перепутал название монгольской богини земли Этуген и шаманок “идоган”, “удоган”, а вслед за тем и бога назвал шаманом. Странная ошибка для наблюдательного монаха-теолога. Возможно, путешественник подметил действительно существовавшую особенность мировоззрения кочевников: божественная сила безлична, но ее эманация – шаман – божественен. Возможно, здесь проявляется влияние буддизма, для которого не существует личного бога, но каждый, достигший просветления, становится таковым. С другой стороны, подобная идея вполне могла возникнуть в рамках автохтонного мировоззрения: в самом деле, если дух предка, т.е., дух, покинувший тело, признается богом (см. гл.1 о боге как умершем тотеме), то почему бы не признать это за духом шамана, который умирает и возрождается во воремя шаманской болезни, когда душа его проходит обучение и инициацию в иных мирах. Каждое камлание-экстаз, в идеале, актуализрует состояние смерти. Ч.Валиханов отмечает поклонение человеку как ипостаси “…необъяснимой силы, вечной как время, которую он назвал синим небом, кок-тэнгри…Эта душа, эти способности, этот дух мыслящий и пытливый, не есть ли очевидное присутствие божества, той неисследимой вечной силы? Он поклонился живому духу в лице шамана и мертвому духу онгону”.
Механизм обожествления “живого духа” – шамана, так же как и “мертвого духа” батыра-предка, видимо, связан с ритуалом жертвоприношения, но если эпический герой отождествляется со “своим” миром, человеческим коллективом, которым он и приносится в жерву, то шаманская болезнь-смерть, после которой кандидат в шаманы становися “живым духом”, может интерпретироваться как жертвоприношение духов, ино-существ. Ребенок – потенциальный шаман с самого начала не принадлежит к человеческому коллективу, он – избранник духов. Они похитили его душу-птицу еще до рождения (или в детстве) и воспитали по-своему в гнезде на мировом дереве, в течение всей жизни они понуждают человека стать шаманом, т.е. приблизиться к ним. Наконец избранник отправляется в путешествие-инициацию в иной мир, знаемый его душой: в бессознательном состоянии визионер какой-то период бродит в дикой местности, чуждаясь людей, или лежит, прикованный к постели, не узнавая окружающих, в бреду. Кульминация наступает, когда духи разнимают его тело по частям (считается, что у истинного шамана в скелете на одну кость больше, чем у обычных людей), заменяют ему кровь, органы чувств и, по некоторым вариантам, поедают его. Что это, как не ритуальная коллективная трапеза-жервоприношение с расчленением тела тотема, совмещенная с проверкой на принадлежность к “своим” ино-существам или с окончательным превращением в “своего”? Окончательно признав шамана “своим”, духи приносят его в жертву и отправляют его в мир “иной”, т.е. к людям. Он становится для них умершим тотемом, который периодически, во время камланий, возвращается в “свой” мир (ведь и человеческий тотем имеет свойство воскресать-возвращаться).В камлании-лечении присутствует мотив козла отпущения: шаман переводит с больного на себя (или на жертвенное животное, кость и пр.) злых духов и уносит их прочь из человеческого коллектива. Таким образом, в основе шаманства лежит тот же механизм жертвоприношения, но обращенный из иного мира в этот.
В ряде метафор тюркских народов Сибири , актуализирующих космогонические мифологемы, вращение шамана во время камлания уподобляется движению мутовки, пахтающей масло, или движению веретена.
Оба эти предмета носят сакральный характер, имеют богатую семантику в традиционных представлениях. С помощью мешалки-мутовки в начале времен происходит разделение стихий, повседневное приготовление кумыса или айрана в сибрской тюркской традиции соотносится с этим сакральным процессом. С помощью веретена богиня Умай – небесная пряха прядет нить жизни, душу человека в виде нити, связывающей его с небесными сферами. Веретено – атрибут шаманского камлания. Процесс прядения, когда из комка шерсти вытягивается и сучится нить, в сакральном плане аналогичен процессу пахтания, т.е. процессу структурирования хаоса. Нить, поскольку она является нитью жизни, нитью судьбы, может быть уподоблена дорогам, связывающим миры, путям, по которым странствует камлающий шаман.
Шаманское камлание, воспроизводящее акт творения космоса есть игра, в которой главный актер изображает самого себя или свою шаманскую сущность (дух), ее метаморфозы и странствия. Шаманское камлание по своей сути, фукнкции и значимости в традиционном мировоззрении сближается с дионисийскими мистериями, а также античной трагедией, герой которой выступает как ипостась бога Диониса. Если античная мистерия посвящена Дионису – умирающему и воскресающему, — то и акт камлания всякий раз в идеале актуализирвал состояние смерти-преобразования. Вместе с растерзанным Дионисом умирает и возрождается жизнь, которую он воплощает. Мистерия – это грандиозное действо перевоссоздания космоса в акте божественного жертвоприношения. Дионис – бог земледельческих, по преимуществу, народов, уходит под землю ради возрождения жизни, ее плодородия. Мифоритуальный сценарий перерождения человека в шаман включает представления о расчленении и перевоссоздании шамана (его тела и его души) духами. Шаман кочевых народов не под землей, а на небе добывает плодородие, жизнь, получает құт (души еще не родившихся детей) от богини Умай, с которой имеет многие общие атрибуты.
В целом, шаман, как и архаичный Дионис и его спутники-сатиры, находится на границе природного (как источника жизни) и социального. Его облик неопределен, пограничен, в его костюме присутствуют перья и шкурки птиц, зооморфные украшения, изображения костей скелета, детали женского костюма. Маска шамана ставит его в один ряд с предком, божеством, зверем, птицей, женщиной, ребенком, человеком вообще. Она включает различные элементы нетолько потому, что они входят в коды (зооморфный, социальный, анатомический), передающие определенные мифологические смыслы. Шаман стремится быть всем сразу, ибо он воплощает мир, его единство, его животворящее начало., его постоянное возникновение из хаоса и возвращение к нему.
В главе 1 рассматривалось значение лексемы “бай” как первый, старший, давний, священный, бог и т.п. “Корень бай\пай\май в тюркских языках тесно связан с различного рода синкретическими действиями шаманских мистерий, радений, заговоров, колодовства, заклинаний и, в связи с этим, с празднествами жертвоприношений, веселий, мира, песнопениями, сказаниями и т.п.” Корень бай\пай\май некоторые исследователи считают результатом фонетической трансформации древнетюркского ума (мать) – Умай. В тоже время в нем выделяется стабильная древнетюркская морфема “ай” – говорить, называть, от которой образованы морфемы “айт” – говорить, называть, предназначать в жертву, жертвовать, заклинать. В ходе камлания шаман кружится (“айналу”), разделяя отдельные стихии и различая-познавая их (в глаголе “айыру” содержится указание на психофизический изоморфизм процессов разделения и различения, познания), т.е. он структурирует хаос, создавая мир.
Полисемантичность морфемы “ай” связана с синкретизмом шаманского камлания как ритуала перевоссоздания мира шаманом-демиургом через его действие и слово (кружение, разделение, говорение-называние). Этому действу изначально прсуще характерное для ритуального мышления тождество активно-пассивного тотема, жизни-смерти, творца и творения: шаман сам есть космос-тотем, расчленяемый и воссоздаваемый, умирающий и воскресающий (морфема “ай” имеет также значение возврата к началу, возвращения), космос в фазе заката, смерти (и тогда он представляет собой нечто грозное, темное, огромное – таково значение морфемы “ай” в словах “айбар”, “айдын” и др.) и в фазе рождения, созидания (“ай” – это также умрающий и воскресающий месяц, луна).
Происходящий позднее распад, раздвоение былого тождества закрепляет на разных полюсах функции, фазы, ипостаси некогда единого космоса-тотема, их взаимодействие представляется теперь как взамодействие объекта и субъекта или как борьба, агон противоположных сторон, прежде всего жизни и смерти, космоса и хаоса. Это борьба двойников, один из которых обладает неким свойством – тотемной сущностью (шың, мән, оң, ұл), придающей смысл, значимость, ценность, истинность обладателю, а другой не имеет этого свойства, являясь ложным, бессмысленным, пустым, существуя лишь как внешнее подобие своего соперника (оңбаған). Такое представление о двойниках имеет наиболее архаический характер, когда семантика явления целиком определяется наличием или отсутствием некоего неизменного прнципа.
С развитием и усложнением определяющего семантику признака, т.е. с своего рода историзацией архаического мировоззрения, двойник перестает быть простым отсутствием, приобретает самостоятельное, в известном смысле, даже более богато содержание: если первый из двойников являет стабильное, основное, действительное в настоящий момент состояние признака, то второй содержит как прошлые фазы в латентной форме, так и потенцал будущего развития.
Агон соперников представлен как говорение, спор, прения жизни и смерти, он получает форму мифа как повествования, плача, эпоса и др. “С самого начала мифы имеют языковую и ритмическую фактуру и функционируют в многоразличных формах…Они фигурируют как плачи, как вои, как называния и обращения, как брань и хвала, как короткие выкрики и речения, как ссоры, перекидывания словами, ответы-вопросы, как песни побед Логоса, его рождения и появления, как песни его поединков и сражений”. Говорящий человек, будь-то шаман, поэт, оратор, представляет космос как борьбу жизни-смерти. “Акт говорения” представляется не абстрактным, а конкретным вещанием жизни-смерти, их подачей, “говорящий” недаром называется у греков “поэтом”, творцом. Поэт-тотем, позже демиург и сотворитель мира, является пророком жизни-смерти”.
Говорение шамана есть вещание самого мира, который проявляется не только в форме членораздельной речи:”Сперва, еще в тотемистическую эпоху, космос представляется говорящим (шум ветра, воздуха, плеск воды, шелест листьев и т.д.). Совершенно необходимо уяснить себе семантику этих архаических “слов”, Логосов и позабыть о значении нашего, современного языкового слова”. Шаман, устами которго говорит мир, обладает не только членораздельной речью, во время камлания он подражает голосам животных и птиц, ветру и воде, прибегает к чревовещанию, к тайному “темному” языку, явной абракадабре, используя слова и интонации чужих языков. Чем шире и богаче звуковая палитра шамана, тем сильнее он, его камская душа “тын-бура”, тем большее количество духов-помощников слушает его и подчиняется ему (“тындау”). Сородичи шамана, исходя из представлений о некоей языковой норме, которой признавался “свой”, человеческий язык, язык данного коллектива, воспринимают такую речь шамана как ино-говорене мира, высших сфер, духов, существ из иных миров.
Для Коркута таким ино-говорением, Логосом как формой борьбы-диалога тотема и антитотема, космоса и хаоса, жизни и смерти становится игра на кобызе, который он, согласно легенде, создал специально для передачи всех звуков природы, голосов зверей, птиц, человека. Как реплики в прении двух сторон, образующие ритм Логоса, можно рассматривать сочетание поэтической и прозаической речи шамана, “нормальной” речи и ино-говорения, но для казахских баксы это, прежде всего, сочетание речи и игры на музыкальном инструменте, а также представленное в самой музыке взаимодействие двух сторон. Это взаимодействие может быть усмотрено как в музыкальной ткани кюя, так и в строении музыкальных инструментов – преобладании двуструнности. Легенда о создании жетыгена связывает появление семи струн со смертью семи сыновей его создателя. Если каждая струна жетыгена – смерть, было бы естественно рассматривать две струны кобыза или домбры как представляющие жизнь и смерть, создающие в единстве кюй-логос, кюй-миф, гармонию космоса.
Аныз к кюю “Аксак кулан” объясняет возникновение двуструнности домбры, которая согласно этому аныз имела первоначально гораздо больше струн. В аныз, сюжет которого широко известен, кюйши является не просто вестником жизни-смерти, он называет-произносит смерть ханского сына, тем самым создавая ее. Раскаленный свинец (хтонический аспект) прожигает в деке домбры отверстие, которое является точкой перехода в иной мир, в смерть. У домбры, являющейся таким образом местом перехода, границей жизни и смерти, остается две струны, представляющие две возможности, два, мира, два состояния.
В синкретическом действе камлания шаман является одновременно во всех ипостасях, инкарнирует единое, называет-призывает к жизни все существующее в скрытом состоянии, стягивает в одну точку – точку потенциального бытия – вселенную и создает ее заново, разворачивает из этой точки, пахтает-структурирует мировой океан хаоса, создавая космос. Он сам, умирающий и воскресающий, есть космос, тотем-смерть и тотем-жизнь. Камская игра-мистерия воссоздает утраченное тождество через ритуальное единство слова, действия и мысли шамана-демиурга. Шаман кружится (айналу), разделяет-структурирует (айыру), говорит (айту), называет (атау), различает-узнает (айыру), предназначает в жертву (айту), стреляет-убивает (ату). Его игра (ойын) есть создание космоса мыслью (ой) и действием (ою – рассекать, вырубать, вырезать изображение, орнамент – все эти метафоры деятельности демиурга существуют в фольклоре южносибирских тюрков).
О.М.Фрейденберг показывает омонимичность некоторых слов в древнегреческом, связанную с распадом тождества тотема как жреца, жертвы и того, кому жертва предназначена, как единой жизни-смерти: святое-скверное-жертва, молиться-убивать, называть-восхвалять-являть-призывать-приносить в жертву значило когда-то одно и то же. Реликтами этого тождества в казахском языке являются полисемантические морфемы “бай” и “ай”, омонимичные корни атау-ату, өлең-өлу, жыр-жырту, сөйлеу-сою, толғау-тұл и др. Омонимы разведены не только по оси говорить-называть-восхвалять-воспевать-молить\ убивать-приносить в жертву, но и по оси мысль-созидание\бездна-тьма-пустота. Морфема “ай” обозначает, кроме всего прочего, нечто огромное, безлюдное, грозное, морфема “ой” – яма, впадина. По этой же оси ориентирована семантика морфемы “аң”: сознание-понимание-разум-интеллект\расщелина-зияние-щель. Полюса связаны значением желания-хотения-тоски-жажды.
Эта темная бездна, в которую погружается шаман, пересекая в ходе своей игры границу жизни и смерти, существует в самом шамане – это глубины бессознательного, немыслимого, иного. “Внутри языка, испытанного и изведанного именно как язык, во всей игре его возможностей в их крайнем выражении, и выявляется, что человек “конечен”, что достигая вершин всякой возможной речи, человек пребывает вовсе не в глубь себя, но, напротив, к краю того, что его ограничивает: в ту область, где рыщет смерть, где угасает мысль, где бесконечно ускользает обетованное первоначало…Язык, отвергнутый в облике дискурса и воссозданный во всей пластической силе его мощного воздействия, отброшен к крику, к телесному мучению, к материальности мысли, к плоти.., бесконечно повторяет рассказ о смерти…Это испытание форм конечного человеческого бытия проявилось внутри безумия…в языке и даже до языка, раньше языка”. Иноговорение шамана обращено к жизни и смерти, существует на их границе, на границе миров – своего и чужого, — на границе человеческого сознания и бессознательного. Музыка Коркута бесконечно повторяет рассказ о смерти, она вторгается в бессознательное и излечивает безумие.
Шаман не только существует на границе, он сам есть существо пограничное, он не принадлежит ни к живым, ни к мертвым (“Қорқыт өлi десем, өлi де емес, тiрi десем, тiрi де емес”). Он – гость в этом мире, рискующий, находящийся на кону, на границе жизни и смерти, заночевавший, т.е. для шамана этот мир есть остановка, закат, ночевка, смерть (ср. семантику тюркско-монгольского “байы” – прекратить ход, остановиться на житье, заходить, закатываться). Предстательствуя за иной мир в этом и наоборот, указывая на границы человеческого бытия, сознания, шаман выступает как эта граница, как Иное человека, как его миф. Иное для казахской традиции не есть просто ограничение, пустота, небытие, отсутствие. Подобно тому как хаос содержит возможность космоса, и смерть есть скрытое неявленное состояние существующего, Иное содержит в свернутом виде потенциал нового.
“Человек и немыслимое – современники. Человек вообще не мог бы обрисоваться в эпистеме, если бы одновременно мысль не нащупала в себе и вне себя, на своих границах, но также и в переплетениях собственной ткани нечто ночное, некую инертную плотность, в которую она погружена, некую немыслимость, которая ее переполняет и замыкает. Немыслимое заключено в самом человеке вовсе не как скомканная природа или напластованная история: по отношению к человеку немыслимое есть Иное, братское и близнецовское Иное, порожденное не им и не в нем, но рядом и одновременно, в равной новизне, в необратимой двойственности”.
Тождественное казахской культуры (ее социального космоса) представлено эпическим батыром, героем-тотемом, а Иное – шаманом. Оба они являются инкарнацией Единого, но батыр обладает определенной, ограниченной долей тотемной сущности, поэтому и его существование , описываемое набором стандартных маркеров, характерзуется как нечто определенное, как культурная норма: он обладает определенным внешним обликом, судьбой, миром-территорией. Шаман – это манифестация единого как множественного, ему характерна неопределенность, пограничность как внешнего облика, так и судьбы, миров, сознания и т.п. Батыру соответствуют поэтико-музыкальные жанры (жыр и др.), названия которых подчеркивают момент разорванности, разделенности, а сарын (см. следующий параграф), арбау (заговор) баксы в самом понятии своем связаны с целостностью, непрерывностью (корень “сар”) и в то же время с пограничностью, трансцедентностью (корень “ар”). Дополнительность этих двух образов казахской культуры отражается также в зоологическом коде фольклорных текстов: для эпоса характерна семантическая насыщенность образов волка и лошади, для аныз о Коркуте – семантика их отсутствия.
Батыр как Тождественное есть установленность, повторение, вечное возвращение принципа, закона, который он олицетворяет, тогда как шаман – Иное, но оно не только определяет и извне ограничивает культуру, это Иное, ставшее истоком, демиургом, вечно творческим началом мира, жизни, культуры.
Прасимвол, идеал этой культуры может быть выражен как обращенность к границам бытия, стремление преодолеть их. Если для античности граница является чем-то абсолютным, а для западной культуры она не существует вообще (по крайней мере до конца ХIХ в. ее существование не осознается), то казахская — полагает границу как нечто, подлежащее преодолению ради познания иного. Если, например, для античной культуры гармоническая внешность, выраженная в скульптурной форме, является конечной, самоценной, то казахская культура воспринимает эти внешние формы как призванные передать, выразить внутренние качества.
Казахский язык моделирует человеческую психику как состоящую из неких подвижных форм, объемов, способных изменяться, принимать в себя внешнее воздействие, открываться, расти и т.д. Это представление дополняется богатой лексикой, передающей желание, воление, нацеленность, устремленность человека к тому, что лежит за пределами его мира. Так же моделируется макрокосм: в предыдущем параграфе при переводе рефрена “Книги моего деда Коркута” уже подчеркивалось обилие глагольных форм в тюркских языках вообще и специфика использования в рефрене синтаксических форм глаголов “приходить”, “уходить”, “умирать”, благодаря которым мир-бытие оказывается не тем, что есть, а движением, изменением, становлением. Смысл “болмыс”, как и природа архаических божеств “Алпамыса” и “Мыстан”, определяется семантикой таинственного “мыс”, рудиментарное значение которого в современного казахском языке – “надежда, стремление, желание действовать”.
Глава Ш.
КАМЛАНИЕ КАК МИФОТВОРЧЕСТВО И КАЗАХСКАЯ КУЛЬТУРА
ОСОБЕННОСТИ КЮЯ КАК ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ
Казахский кюй как форма народной инструментальной музыки представляет уникальное явление в мировой культуре. Поскольку генетически он связан с функцией ино-говорения шамана во время камлания, объяснение этой уникальности следует искать прежде всего в особенностях казахского шаманства.
Использоване музыкальных инструментов в камлании распространено достаточно широко, в традиционном мировоззрении сибирских тюрков бубен является ездовым животным, конем шамана. Частота и сила ударов бубна отражает этапы путешествия шамана в иных мирах. Кроме того, на поверхности бубна представлена схема мироздания, а его перекладина служит своего рода насестом для духов-помощников. Семантика бубна весьма богата, но здесь нас интересует сопоставление ее с семантикой кобыза казахского баксы. Если бубен представляется конем, то кобыз – это лебедь, птица, уносящая души умерших в мир иной, и желмая – ездовой верблюд казахских пророков, воплощение шаманской силы, шаманской души. Вделанное в корпус кобыза зеркальце – это вход в мир иной, так же как и отверстие в деке домбры.
Согласно исследованиям музыковедов, игра на кобызе и домбре первоначально заключалась в варьировании ритма при стабильной или значимо не воспринимаемой высоте звучания., т.е. составляла функциональный аналог игре на бубне. Восприятие высоты и тембра звука как варианта и появление второй струны – более поздние явления, и их вознкновение требует совместного исследования историков музыки, этнологов, психологов, философов. Искусствовед Б.Аманов показывает, что в народных музыкальных терминах структура домбрового кюя определяется путем ее пространственного соотнесения с образом мировой горы: вершина, середина, основание. Термины, обозначающие таким образом части кюя, порядок их появления и функции, определяют одновременно и их высотное звучание, что конкретизируется соответствием названий частей кюя названиям частей грифа домбры. “Общее развитие кюя понимается как движение, начинающееся вверху (бас), опускающееся через середину (орта, кеуде) вниз (аяқ, сага) и завершающееся возвращением снова вверх…Обращает внимание трактовка верха и низа музыкального пространства полярно противоположная современным представлениям”. В целом, кюй является аналогом путешествия шамана в иной мир и его возвращения.
Но шаман не просто путешествует в мирах, в предыдущем параграфе шаман был представлен как демиург, как инкарнация вечной божественной силы, как космос-тотем в единстве своих фаз, форм, функций, проявлений. Говорение шамана во время камлания есть вещание жизни-смерти, Логос мира, который существует не только в членораздельной речи, но и в шелесте листьев, вое ветра, течении воды, голосах животных и птиц. Ино-говорением также представляется и поэтическая речь, противопоставленная прозаической. На более поздней стадии это ино-говорение шамана воспринимается также как диалог шамана с ино-существами, жителями иных миров, духами, божествами и др. Поскольку язык соседних народов воспринимается как “чужой”, выпадающий из нормы, то и он в процессе камлания выступает как ино-говорение. Короче говоря, речь шамана, соответствующая принятым в данном коллективе нормам, воспринималась как обычное обращение члена коллектива к своим сородичам, а издаваемые шаманом звуки, выходящие за рамки норм, как ино-говорение, диалог с иными сферами, иной реальностью.
Инструментом такого иноговорения казахского баксы был, в первую очередь, кобыз, который, как уже говорилось, был создан Коркутом именно для передачи всех звуков природы, голосов животных и птиц, человека, т.е. речи мира.
Иное, диалогом с которым является ино-говорение шамана, есть Иное самого человека, скрытое, бессознательное его психики. Кюй – это и обращение баксы к Иному, к бессознательному в самом себе и слушателе, и голос того неосознаваемого, теневого, что скрывается в каждом человеке, это диалог сознания с бессознательным на границах человеческого бытия о начале, смерти, времени, вечности. Подобно тому, как камлающий шаман сворачивает в одну точку и разворачивает, перевоссоздает вселенную, кюй баксы, погружая слушателя в переживание пройденного, возвращает его к точке начала и перевоссоздает космос человеческой психики.
Антропо- и социоморфная модель шаманской вселенной создает благоприятную возможность для познания структур бессознательного, а также позволяет шаману преструктурировать, гармонизировать индивидуальную психику. Механизм терапевического воздействия шаманизма, как было показано К.Леви-Стросом, аналогичен терапевтическому воздействию в психоанализе. Его сущность заключается в эффективности символов, с помощью которых бессознательное, его скрытые желания, забытые воспоминания выводятся на поверхность человеческой психики. Шаманизм и психоанализ одинаково конструируют миф, который позволяет оформить индивидуальные впечатления. И в том, и в другом случае, главной проблемой является создание символов, способных как передать сложные впечатления, так и стимулировать процесс их воспроизведения (отреагирования). В качестве таковых используются языковые формы, жесты, изображения и т.п., но, несомненно, музыка с ее полисемантической символикой и неограниченными возможностями структурирования музыкального содержания, является наиболее адекватной формой. Кюй-логос, кюй-миф, приобщающий слушателя к радости, скорбям, страданиям, восторгу единого вечного начала жизни и смерти, дающий форму, язык для выражения его боли, его переживаний, как бы погружает слушателя в воды Леты, в воды реки единого, смерти, беспамятства, реки -–границы жизни и смерти, уносящей, а, значит, несущей, содержащей воспоминания, радости, страдания всех, кто когда-либо ее пересек. Мать Ахиллеса сделала своего сына неуязвимым, погрузив его в воды Леты; баксы исцеляет слушателя, передавая ему свой опыт пережииивания трагического – пограничной ситуации, некогда перевоссоздавшей его сознание, сформировавшей его как шамана. Некоторые знаменитые баксы, по описаниям исследователей ХIХ в., исцеляли, например, буйнопомешанных за несколько сеансов лишь игрой на кобызе.
Писатель-этнограф А.Сейдимбеков показывает, что слово “кюй”, означающее казахскую инстументальную музыку, связано с группой понятий, отражающих состояния, настроения человека. Кюй – это не только инструментальная музыка, но и некоторые состояния чувств человека. Производное от этого корня слово “күйдi” означает в прямом смысле попадание чего-либо или кого-либо в огонь или в воду (ср. с восприятием огня и воды как очистительных, высших сил в тенгрианстве), а в переносном смысле – крайнее, нетерпимое более состояние человека. В то же время казахское слово “күй” является фонетической трансформацией общетюркского “көк”, обозначающего вечно-синее небо, высшую силу, созидающее, упорядочивающее, гармонизирующее начало. Музыка, в особенности, игра на кобызе, в казахском традиционном представлении ассоциировалась со стихией воды. Вода кажется нам голубой, потому что отражает синеву неба. “Көңiл” – мир человеческих чувств – подобен океану, “күй-көк” – его движение, явленное состояние и, одновременно, его принцип, его сущность.
Хотя казахская инструментальная музыка и ее психотерапевтический эффект генетически связаны с ее функциями в шаманском камлании, с особенностями мировосприятия баксы, все богатство форм, средств музыкальной выразительности, созданное многовековой традицией, не может быть объяснено, исходя только из ее генезиса. Подобное объяснение не только не является целью нашего исследования, но и вряд ли вообще может ставиться в в исследовании любого масштаба и глубины. В этом параграфе мы попытаемся прояснить некоторые особенности казахской инструментальной музыки как знаковой системы, возникающей из функции ино-говорения в шаманском камлании. В соответствии с этим, основное внимание будет уделено звукоподражательным кюям. При этом мы далеки от утверждения, что вся казахская инструментальная музыка имеет звукоподражательную природу. Речь идет об исследовании генезиса кюя, определившего некоторые формы музыкальной выразительности, в которых, как это будет показано ниже, план выражения и план содержания взаимообратимы.
Для К.Леви-Строса музыка является своего рода психофизической структурой: когда человек слушает музыку, она живет в нем, а он через музыку слушает себя, организует индивидуальное подсознательное согласно всеобщим структурам бессознательного. При этом музыка как бы является перевернутой системой, поскольку ее содержательность, значимость определяются восприятием слушателя,которое и создает музыкальное произведение. Рассматривая каноническое искусство как информационный парадокс, Ю.М.Лотман выделяет два кардинально различных способа увеличения информации, которой владеет индивид или сообщество. Один – получение извне информации в константном объеме – присущ искусству (и обществу), цель которого – преодоление канона, выражение авторской личности. Это характерно, в частности, для нововременного европейского романа, читатель которого пассивно воспринимает информацию, заложенную автором.
“Второй – строится иначе: извне получается лишь определенная часть информации, которая играет роль возбудителя, вызывающего возрастание информации внутри сознания получателя. Это самовозрастание информации, приводящее к тому, что адресат играет более активную роль, чем в случае простой передачи определенного объема сведений”. Информационным возбудителем является “…как правило, строго урегулированный текст, который способствует самоорганизации воспринимающей личности…Сверхупорядоченность плана выраженя здесь приводит к тому, что связь между выражением и содержанием теряет присущую языку однозначность и начинает строиться по принципу узлка и связанного с ним воспомнания”.
Каноническое произведение искусства, являющееся подобным возбудителем внутренней информации и своеобразным катализатором перекодировки личности, строится по модели музыкального произведения, а не по модели естественного языка, общеязыкового общения. Оно является кодифицированным текстом с жестко урегулированной структурой, для которой характерна повторяемость и цикличность, его информативную ценность нужно рассматривать в единстве внетекстового и внутритекстового содержания. “…В структуре культуры существует лишь один истинный, глубинный текст… И художник, находясь в русле, в потоке, в движении этого текста, осознается как исполнитель, импровизатор на заданную тему”, а носителем единого текста, в принципе, является каждый носитель традиционной культуры.
Для кюя, как музыкального и как канонического произведения, дважды справедливо представление о нем, как о перевернутой системе. В сознании слушателя – носителя данной культуры – кюй существует не только в единстве с предваряющей его аныз-легендой и обстановкой – своего рода ритуалистикой – исполнения, но и в единстве с представлениями о нормативной структуре кюя, семантике образов, знаков-мотивов кюя, т.е. он является еще одной вариацией в рамках канона, в рамках единого текста культуры. Коркута традиционно именуют “күй атасы”, т.е. “отец кюя”, но не “кюев” так, будто существует единый кюй, разворачивающийся бесконечно. В отличие от западных музыкальных произведений, кюй существует не в единственной, жестко зафиксированной форме, но в совокупности вариантов, которые могут принадлежать как автору, так и исполнителям, и признающиеся таковыми как правильные, как одно и то же произведение.
Включение в общекульттурные рамки необходимо для полноценного восприятия и правильной интерпретации как плана содержания, так и плана выражения канонического текста, подобного кюю. Абстрагирование от культурного контекста, включающего отдельный текст, на любом этапе исследования чревато непониманием, даже если речь идет о достаточно независимых аспектах произведения, например его музыкальной ткани (выразительности).
Уже самое поверхностное прослушивание кобызового кюя позволяет сделать вывод о его звукоподражательной природе, в то время как в западно-европейской традиции еще с Платона подражательная музыка воспринималась как малоценная и бесперспективная. Один из основоположников нейросемиотики Р.Якобсон, основываясь на выделении Ч.Пирсом (в зависимости от наличия сходства или природно-обусловленной связи означаемого с означающим) индексных, иконических и символических знаков, показал, что в культурной жизни, где звуковой язык является основной системой коммуникации, звуковые знаки-символы преобладают над знаками-индексами и иконическими знаками, в то время как для зрительного восприятия характерно преобладание знаков-индексов над символьными. Отсюда закономерное развитие музыки как символической знаковой системы, а живописи – как иконической. Поскольку слуховое восприятие может характеризоваться как временное и последовательное, “…использование слуховых знаков имеет иерархическую организацию и дискретные элементарные компоненты, необходимым образом отобранные и организованные для достижения поставленной цели”.
Музыка является такой звуковой знаковой системой, где основное значение принадлежит отношениям между ее дискретными компонентами – звуками. Дискретность основывается на абстрактности знака, его оторванности от означаемого, отсутствии природно-обусловленной связи между означаемым и означающим. Для семиологии по сей день остается нерешенным основополагающий для этой науки вопрос:”…Способно ли аналоговое вопроизведение (“копирование”) предметов приводить к возникновению полноценных знаковых систем (а не агломерата символов)? Может ли наряду с кодом, образованным дискретными элементами, — существовать “аналоговый код?” Р.Якобсон, а вслед за ним К.Леви-Строс дают однозначно отрицательный ответ на этот вопрос и делают вывод, что подражательная, т.е. основывающаяся не на знаке-символе, а на знаке-индексе и иконическом знаке, музыка не имеет перспективы.
В целом, постоянное отторжение западной культурой подражательной (иконической) музыки знаменательно в рамках проблемы отношения мифа и ритуала. Западная символическая музыка, где отдельные звуки незначимы сами по себе, строится по образцу речевого высказывания: дискретизация, а, затем, построение цепи речевого высказывания. Музыкальную партитуру, как и партитуру мифа, можно читать горизонтально (синтагматически, речевая модель) и вертикально (парадигматически, языковая модель). Согласно К.Леви-Стросу, в концепции которого музыка наряду с мифом является элементом сразу нескольких основополагающих для культуры диад и триад, в музыке в чистом виде воплощена формальная сторона мифа, его структура, при том что миф в западной культуре довольно жестко отделяется от ритуала. Но музыка достаточно логично может интерпретироваться как элемент ритуала, что мы и наблюдаем в шаманском камлании.
Кобыз был создан, по преимуществу, как звукоподражательный инструмент. В этом, особенно в чудесной передаче тембра и интонаций человеческого голоса, могущество кобыза, мощное воздействие на душу слушателя. Объяснение феномена сохранения и развития иконической (подражательной) музыки может быть дано самым простым образом:эта музыка возникает как элемент камлания, сохраняя свою сакральность на протяжении тысячелетий, что и приводит к консервации ее архаических черт. Такое “генетическое” объяснение не способно объяснить воздействие музыки кобыза на человеческую психику, но тем не менее вводит в круг проблем соотношения ритуала и мифа, указывая, таким образом, направление исследования.
Музыка кобыза, включенная в камское действие, должна была отразить продвижение шамана в иных мирах, передать увиденное им и его разговоры с но-существами, т.е. включить как информацию (визуальную и звуковую), получаемую баксы, так и его действия. С одной стороны, кобыз путем звкоподражания создает картину типа видеоряда. Статика образов кюя, возвращение, кружение должны обеспечить эффект непрерывного, симультанного восприятия, характерного для обработки информации правым полушарием головного мозга. С другой стороны, игра на музыкальном инструменте, отработанная до автоматизма и не регулируемая свойственным для левополушарного мышления способом обработки информации, имеет характер ритуальных телодвижений, аналогичных движениям в ритуальных танцах, при выполнении асан йоги или ката в восточных единоборствах.
Единство терминов, отражающих вертикальную структуру мира, частей кюя в порядке их исполнения, функций и высотного положения, с названиями частей грифа домбры приводит к тому, что форма кюя определяется как производное не временного, а пространственного фактора, логикой пространственного (непрерывного и симультанного), а не временного (дискретного и последовтельного) восприятия. “Мерой отсчета времени являются пространственные категории, с одной стороны, узко, предметно логализованные на грифе, с другой – связанные с космическими моделями”. “Композиционные узлы кюя связаны с определенным положением руки на грифе, что дает основание утверждать – формирование структуры кюя происходило в тесной связи со строением инструмента, под влиянием факторов не только музыкальных, но и зрительных, моторно-осязательных”.
Слушатель-носитель данной культуры не только воспринимает ритуалистику исполнения кюя и отвечает исполнением слушательского ритуала, но и получает моторно-двигательные и эмоциональные импульсы, имеющие определенную культурную, а не только физиологическую направленность: передавая голоса животных, их телодвижения (через физиологические ритмы, такие как биение крыльев лебедя, аллюр лошади), знакомые слушателю из его опыта, кобыз заставляет вжиться в психологически напряженные моменты существования этих животных. При этом выбор образов животных связан с прочной культурной традицией, эти образы семантически весьма значимы в данной культуре, в традиционном мировоззрении за ними закреплены определенные функциии и смыслы, так что они перешагивают границу, разделяющуе иконические и символические знаки, передавая абстрактные значения. Так, например, естiрту – сообщение о смерти – может содержать образы лебедя, сокола, горы и т.д. Но произведене не разрабатывает “тему” лебедя, “тему” сокола, а лишь одну тему, одну идею — идею тяжелой утраты. “Символы в инструментальной музыке, функционирующие в виде всевозможных “мотивов-знаков”, достаточно устойчивы и обладают высокой степенью типизированности. Своей устойчивостью музыкальные символы обязаны первичным жанрам, в недрах которых они и откристаллизовались. Известно, что для первичных жанров характерна непосредственная связь с жизнью (более точно, с ритуалами, оформляющими некоторые критические моменты жизни – ЗН). Отсюда и высокая степень типизации. В плачах жоктау, прощальных коштасу, песнях печальных сообщений естирту, колыбельных песнях (в т.ч. и в первую очередь в первородном синкретическом жанре камлания, воспроизводящем космогонию и порождающем культурные смыслы-семемы, закрепляемые затем в других жанрах – ЗН) заложено определенное апробированное общественной практикой смысловое значение, понимаемое абсолютным большинством людей. Именно в них и произошла крсталлизация “мотивов-знаков”.
Подражательные звуковые знаки, являясь в своей иконичности символами, включены во вторичную знаковую систему и уподобляются словам-мифемам:”…Заимствуя неологизм из строительной практики, можно было бы сказать, что в отличие от слов мифемы “предварительно напряжены”. Конечно, это все еще слова, но слова в двойном смысле – слова слов, функционирующие одновременно в двух планах: языковом, где они сохраняют свое собственное значение, и в метаязыковом, где они выступают как элементы со сверхзначением, которое может проявляться из их соединения”. Над обычной знаковой системой (высказывание естественного языка или кобызовый кюй, понятый как подражательная музыка) надстраивается вторичная система, которая в качестве означающих имеет означаемые первичной системы. Эта вторичная система может быть представлена как мифология, переданная не метаязыковыми средствами, а через иконически-символическую музыку.
Таким образом, казахская народная инструментальная музыка, истоком своим имевшая ино-говорене кобыза во время камлания, сохраняя свою иконичность, преодолевает ограниченность и бесперспективность, на которые, казалось бы, обречена в силу своей подражательности, двумя путями: во-первых, она парадоксальным образом через повторяемость и кружение музыкального материала, пространственно-временной изоморфизм, изоморфизм человека, космоса и кюя, иконичность, ритуалистичность и др. преодолевает противоположность визуального и слухового восприятия, создавая эффект одновременности, моментальности, недискретности; во-вторых, она включается во вторичную знаковую ситсему, так что ее иконические “знаки-мотивы” начинают функционировать как символы.
Кюй представляет удивительный семотический феномен: удержав и развив синкретичность, присущую обычно искусству на первых этапах эволюции, кюй как бы преодолел пропасть, которая всегда существует между двумя сторонами знака – означающей и означаемой и, таким образом, репрезентируемое этим расщеплением знака противостояние синтагмы денотативного сообщения и системы коннотативного сообщения и, в конечном счете, природы и культуры.
Кюй, включенный в рамки традиционного казахского мировоспрятия, функционирует как единство двух начал, определенных Ф.Ницше как Дионисическое и Аполлоничекое. Для Ф.Ницше Аполлон выступает как гений принципа индивидуации, бог меры, бог пластического искусства, порождающего полные спокойной отстраненной красоты иллюзорные образы Олимпа и гомеровского эпоса. Дионис – это само Первосущее, Первоединое, разрушающие оковы индивидуации, вечное начало жизни с ее противоречием извечной скорби и восторга бытия, создающее трагическую музыку. Союз этих противоположных в своем глубочайшем существе и в высших целях сил создает античную трагедию. Иллюзорные образы трагедии, герой которой есть индивидуализированная ипостась вечного Диониса, смягчают воздействие трагической музыки на зрителя, не дают упасть ему в приоткрываемую ею бездну, окончательно слиться с Единым.
Коркут выступает как создатель дионисической по своему духу музыки, которая, благодаря своей иконической символичности, позволяет слушателю соприкоснуться с Единым, не потеряв индивидуальности. Вместе с тем, эта музыка выступает в единстве со словом (Коркут – создатель эпоса) явно (когда музыкант произносит некоторые фразы, или исполнение жыра сопровождается музыкой) или скрыто (когда ритмо-мелодийная форма кюя является кодом словесной фразы, так что подтверждается поговорка “Для понимающего кюй – это жыр”). Это единство выступает в форме сарына, иногда представленного в кюе несколькими тактами, иногда разрастающегося в отдельный кюй.
Если содержание иконического “мотива-знака” достаточно жестко зафиксировано культурной традицией, сарын, также связывающий кюй с ритуальной практикой, имеет строго индивидуальный характер, является как бы меткой, знаком отдельного баксы. Сарын можно определить как музыкальный вариант мантры (зикра), т.е. некоей короткой словесной формулы, постоянное произношение которой, даже если оно имеет достаточно автоматический, неосмысленный характер, должно ввести человека в особенное состояние. В некоторых случаях мантра может быть общей для всех, в некоторых – она индивидуальна, но так или иначе представляет собой фразу из священного текста. Сарын же создается самим баксы, в светской сфере ему соответствует саз. Обычно и то, и другое слово переводится как “мотив”, “напев”, но нам хотелось бы подчеркнуть момент индивидуальности, присущий этим понятиям. Сарын-призыв вводит баксы в измененное состояние сознания, когда он общается с духом-покровителем, духами-помощниками и Всевышним. Духи узнают баксы по его сарыну, представляющему как бы слепок его души, его психической структуры. Саз-сарын акынов имеет более светский характер, но и здесь сущность творчества традиционное мировоззрение определяет как инспирацию, контакт с духом.
Саз-сарын были связаны с определенными речевыми формулами, но в этом единстве музыки и слова представляли как бы индивидуальность создателя. Саз-сарын известного акына или жырау, выражающий его стиль, только ему присущую манеру исполняется часто без слов, в качестве кюя. Этот кюй не только выражает индивидуальный стиль выдающегося певца или сказителя, но и представляет собой ритмо-мелодийную формулу его словесного творчества, обратившуюся в канон. Исполнение такого кюя вызывает в памяти слушателя не только известные ему строки любимого поэта, но и является средством концентрации и оформления собственной мыслительной деятельности. Для акына-импровизатора, творчество которого в большей мере представляет варьирование словесных формул, использование саза, своего или заимствованного, является как бы кодом, вводящим его в некое состояние сознания, когда правое полушарие головного мозга начинает действовать в режиме автоматизированной речи (см. выше трактовку Ю.Лотманом канонического произведения искусства как возбудителя внутренней информации).
Современный французский постструктурализм, отвергая нововременную идею личности автора как принципа произведения, склоняется к теории литературной деятельности, приближенной к представлениям традиционного общества об импровизации как инспирации, проявлении того, что стоит за спиной автора. Но если в одном случае это – дух, то в другом – “язык как таковой”, “символическая деятельность как таковая”, “письмо” как “изначально обезличенная деятельность, позволяющая добиться того, что уже не я, а сам язык действует, “перформирует”. Современный скриптор как импровизатор “…рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до или вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом. Остается только одно время – время речевого акта, и всякий текст пишется здесь и сейчас”.
Если язык – это то, что находится за спиной субъекта, то “…стиль – это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении. Он отсылает к биологическому началу в человеке…Стиль представляет самодовлеющий личностный акт…Под ним прочно и глубоко залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слову…Стиль оказывается своего рода сверхлитературным действием, в котором человек стоит на пороге всемогущества и магии. Билогическая природа силя ставит его вне искусства, вне договора, связывающего писателя с обществом”.
По Р.Барту, текст рождается как взаимодействие двух слепых сил – языка и стиля. Жыр и саз-сарын представляют две стороны синкретического искусства казахов, т.е. здесь эти две силы как бы разведены, получают достаточно автономные формы проявления. Но эта разделенность условна, ведь, в конце концов, обе эти силы есть проявление единой творческой энергии, которую в разных культурных контекстах называют Единым, Дионисом, Абсолютом, Тенгри или, наконец, речевой энергией, которая “…заключена не во вдохновении и не в индивидуальных волевых устремлениях, а в правилах, сформировавшихся за пределами авторского сознания. Мифический голос муз нашептывает…не образы, не идеи и не стихотворные строки, а великую логику символов, необъятные полые формы, позволяющие говорить и действовать”. Человек творчества может наполнить эти формы самой разной субстанцией, в одном случае – это членораздельные звуки, в другом – музыка, в третьем – жесты, изображения и т.д. Но, независимо от субстанции “существует единая риторическая форма, объединяющая, к примеру, сновидения, литературу и разного рода изображения”.
Эта единая риторическая форма, логика означающих, в нашем веке стала объектом изучения самых разных исследователей от О.М.Фрейденберг и Я.Голосовкера до неориториков. Игра с формами, движение символа по направлению к другому символу становится не только предметом, но и методом постструктуралистской мысли. Подобный способ движения мысли в неявной форме существует в мифологии и фольклоре человеческих обществ на определенной ступени развития (так что эти риторические формы воспринимаются как физическая данность, в т.ч. и в казахской культуре). Но в казахской инструментальной музыке, выявляющей структуры человеческой психики в единстве природного и социального, преодолевающего разрыв пространственного и временного, визуального и слухового, синтагмы и парадигмы, синхронии и диахронии, непрерывного и дискретного, мифа и ритуала, пластического аполлонического и трагического дионисического искусств, эта логика выявляется и фиксируется в кюе. “Канонизация разделов формы, стабильность местоположения кульминации, устойчивая последовательность разделов формы – все это оказалось возможным потому, что течение музыкальной формы подчиняется закономерностям чисто музыкальной логики и течению размышляющего, созерцающего познания».
ШАМАНСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И КОММУНИТАС КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
В предыдущем рассмотрении мифоритуальных оснований традиционного общества в казахских фольклорных текстах мы оперировали понятиями культура, природа и ритуал, не определяя их, опираясь на их привычные значения и распространенные употребления. Подобная практика была приемлима на определенном этапе исследования, но теперь она требует пересмотра, а используемые понятия – уточнения, т.к. предполагается рассмотреть сами основания традиционной культуры в плане выявления специфики той ее формы, которую мы обозначили до этого как казахскую культуру, имея в виду культуру, в истоке которой находится миф о Коркуте, культуру,Тождественным которой является эпический батыр, а Иным (и Началом) – баксы-кюйши-жырау.
Хотя именно традиционная казахская культура наиболее полно соответствует той модели, тому способу существования, который мы рассматриваем, обозначение “казахская культура” достаточно условно, и мы могли бы употребить понятия “шаманская”, “кочевая”, “устная” и др., т.к. все они отражают некоторые аспекты, отличающие данную форму социальности от традиционной канонической, кастовой, оседлой, жреческой и др. культуры народов Писания, Книги, т.е. от наиболее исследованного в теоретическом плане типа культуры.
Предваряющий это рассмотрение анализ кюя как иконически-символической знаковой системы показал, что объяснение специфичности казахской культуры следует искать у оснований культуры вообще, т.к. существует принципиальное различие в способе функционирования знака как социальной формы наследования информации, знаковой реальности в процессе мифоритуальной деятельность, в процессе антропо- и социогенеза. Специфичность казахской культуры должна быть рассмотрена в широком контексте перехода от природного к культурному, при этом природное следует рассматривать не столько в смысле биологической субстанции, но, скорее так, как говорят о естественном человеке, жизненном начале, вечном творческом принципе, дионисическом, стихийном и т.п. Жреческая культура противополагает себя этому природному в качестве культуры меры, о-пределения, разграничения, оформления, структурированя, индивидуации через “делание” и “говорение”, миф и ритуал.
Проблема взаимоотношения ритуала и мифа выходит за рамки нашего исследования, в данный момент будет достаточно указать на их исходное единство, в котором человеческая культура продолжает и преодолевает природную предысторию, обретает самостоятельный характер и самодовлеющую ценность. Ритуал (и миф), воспрозводящий творение космоса и человека, характеризуется особым типом мышления, мировосприятия, миропонимания. Это мышление, в корне отличающееся от более поздних типов, характеризуется не только тем, что его основное содержани составляет творение мира, но и особым способм существования, заключающемся в постоянном воспроизведении, актуализации, переживании этого содержания.
Воспроизведение творения мира в риуале осуществляется человеческим коллективом в экстремальных ситуациях, когда он оказывается перед угрозой разрушения и распада. Эта ситуация, независимо от того, возникает она по объективным (конец времени, временного цикла) или субъективным (неправильные действия членов коллектива ли влияние враждебных сил), причинам, воспринимается как момент, когда хаос одерживает верх над космосом, как исчезновение под напором природных стихийных сил наложенных культурой пределов и разграничений. Восстановление порядка, воссоздание космоса требует участия всех членов коллектива во всех доступных им формах деятельности, единства действования, говорения, мышления.
Ритуал предполагает использование “…всех доступных форм и способов выразительности, образующих своего рода парад всех знаковых систем (естественный язык, язык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, музыка, цвет, запах и т.д.), никогда и нигде более не образующих такого всеобъемлющего единства”. Ритуал не только обращается ко всем находящимся в распоряжении человека средствам восприятия, подчиняет и социализирует их, формируя из исходных биологических данных человека разнообразные способы существования знака, знаковые структуры. Он актуализирует и переосмысливает свое содержание, так что ритуал выступает не только как творение космоса, но и творение смысла, живое мифотворчество. Ритуальная деятельность, таким образом, является источником знаковой реальности в единстве ее содержания (означаемого) и формы (означающего). В дальнейшем синкретическое единство ритуала распадается, давая жизнь разнообразным отраслям человеческой деятельности, некоторые из которых (например, различные виды искусства) наследуют не только формальную структуру ритуала, его направленность на удовлетворение потребностей человеческого коллектива, но и его дух, содержание, как переживание единства сущего перед лицом небытия.
Ритуал как рубеж природного и социального, как основание культуротворчества, как “делание” космоса, “работает” с хаосом, неорганизованным, стихийным, нерасчлененным, а, значит, постоянно возвращается и обращается к нему. “Смысл ритуала именно в том и состоит, чтобы включить непрерывное, хаотическое в строгие рамки своей структуры и “усвоить” их себе, подвести их вплотную до той черты, с которой начинается дальнейшее “усвоение” переживаемого мира – с помощью языка, в языке, в знаках и символах в их языковом воплощении.” Ключевая проблема – поддержание оптимального (не слишком близкого и не слишком далекого) расстояния между мирами, т.к. хаос по отношению к космосу одновременно является и разрушителем, и творцом, источником обновление и развития. Ритуал вырабатывает две основные стратегии работы с хаосом, различие и проблема приоритетности одной из которых осознается уже в древности и закрепляется, в частности, у индоевропейских народов в представлении о парных верховных богах – Варуне и Митре, в двойственности системы богов вообще.
У индоевропейцев, как показывает Ж.Дюмезиль, триаде социальных функций, отразившейся в кастовой системе, соответствует трехуровневая система верховных божеств, младшие из которых покровительствуют второму и третьему сословию — воинам и производителям материальных благ. Главные верховные боги олицетворяют власть – духовную и светскую во всех аспектах. Один из этих главных богов – Митра – близкий человеку и социуму, доступный, земной доброжелательный “бог-законник”, “бог-жрец”, другой – Варуна — далекий грозный космический “бог-маг” (шаман), “бог-воин”. “Митра – верховный бог в своем разумном, ясном, умеренном и упорядоченном, спокойном, доброжелательном жреческом аспекте; Варуна – верховный бог в своем нападающем, темном, таинственном, неистовом, ужасном, воинственном аспекте” Оба аспекта взимосвязаны в своем функционировании и необходимы: разрушение старого и созидание нового – приоритет близкого к хаосу Варуны, поддержание и оформление существующего социума, его норм – функция Митры.
Если два противоположных по образу действия бога существуют одновременно, то их человеческие персонификации должны быть разделены во времени. Именно так происходит в римской мифологии, где кроме Юпитера-Варуны и Фидеса-Митры фигурируют образы двух легендарных царей – Ромула и Нумы Помпилия. Первый – полубог, от рождения больше связанный с миром иным, стремительный и воинственный, не признающий границ основатель священного города. Второй – подчеркнуто обычный человек, дающий городу мир, закон и благоденствие, утвердивший его неизменные границы, поделивший землю между гражданами в надежде, что земледелие привьет им миролюбие. Ромул -–бездетен, Нума – предок благородных фамилий города. Благочестие Ромула – в гордом уповании на своего божественного покровителя Юпитера, Нума – образец ритуальной точности. Ромул связан с луперками — лесным (кстати, волчьим) братством, стоящим почти вне закона и общества, раз в год захватывающим город, чтобы ударами ремней очистить его от нечисти и обеспечить плодородность женщин (прямая параллель с деятельностью шамана). Нума – основатель упорядоченного жречества. “Ромул и Нума открыли каждый один из двух путей религии: Ромул основал ауспиции, а Нума – sacra. Искусство ауспиций состоит в том, чтобы иногда вызывать, всегда принимать и толковать, а иногда отвергать знаки, которые великий бог посылает людям. Искусство sacra – это культ, отправляемый людьми, культ с молитвами, взаимными переговорами, жертвоприношениями. В религиозной практике ауспиции и sacra обозначают, таким образом, два направления, две отправные точки, так же как и два стиля: первые приходят из другого мира в этот, вторые совершаются на земле и идут к богам…одни таинственны, часто тревожащи и непредсказуемы, вторые разворачиваются, следуя совершенно ясной технике”.
Эти религиозные стили (или ритуальные стратегии) представлены наиболее ясно в шаманском камлании и ведическом жертвоприношении, то есть разведены в разные культуры. В то же время Ромул и Нума представляют подобно шаману и батыру, Иное и Тождественное своей культуры. Естественно, полной транскультурной аналогии не существует: батыр, например, обладает природой “небесного волка”, связан с небом и воинственен (в отличие от Нумы) не менее, если не более, чем шаман (а шаман воинственен: во многих легендах он во главе своих духов-помощников и покровителей насмерть бьется с войском враждебных духов). Однако параллелизм в целом замечательный.
Два взаимодополняющих образа действия, два аспекта мира по-разному соотносятся в разных культурах: у индоарийцев появляется некая богиня Адити (неразделенная, недвойственная) – мать всех верховных богов, рожденная от одного из своих младших сыновей. У римлян, а также у германцев и скандинавов, бог митраического типа отступает на задний план, почти вырождается, а бог варунического типа обрастает рядом дополнительных характеристик. Тем не менее они продолжают существовать, так же как и соответствующие религиозные стили.
Для нас наиболее интересны изменения, произведенные реформой Заратустры в иранском пантеоне: из всего сонма богов как более или менее самостоятельный бог сохраняется лишь Митра, в котором находят также подправленные черты Варуны и Индры. Все младшие верховные боги, связанные с идеологией военной аристократии и крестьянства, стали “дэвами”, которые “сохранив индоиранское название богов (вед. Deva), пробрели ранг и роль демонов”. Единственным настоящим богом этой монотеистической системы – создателем мира, Митры, благих творений — является Ахура-Мазда (Господин Мудрость). Принято полагать (и здесь Ж.Дюмезиль согласен со своими предшественниками), что Ахура-Мазда является расширением и возвышением древнего Варуны, так что самое имя этого верховного бога исчезает после реформы. Но так ли это? Часть варунических черт переходит к Митре. Те характеристики Ахура-Мазды, которые сближают его с Варуной (всемогущество, удаленность от человека), было бы точнее отнести к его статусу единственного бога-творца. Положительный архангелы (Бессмертные деятели), появившиеся после реформы и представляющие собой персонификации черт Ахура-Мазды, — Благая Мысль, Всеблагой порядок и т.п., — указывают на совсем не-Варунический характер “Господина-Мудрости”.
Можно предполагать, что жреческая реформа, возведшая в статус абсолюта жреческую идеологию, не была заинтересована сохраниь верховного бога-мага, но и не осмелилась включить его в список демонов, а потому предпочла обойти молчанием. Интересно, что эта же реформа объявила вдруг вполне респектабельных до того скотоводов-кочевников приспешниками дьявола, сил тьмы. Не потому ли жрецы-реформаторы ополчились против кочевников, что те оказались близки к низвергнутым Варуне, Индре, а также богам – покровителям дорог, путешествий, гостеприимства? И не с этого ли момента – “осевой эпохи” К.Ясперса – дошло до наших времен уничижающее отношение оседлых народов к кочевым? Ведь в это само время греки разделили весь мир на эллинов и варваров, а царь Нума наделил землей граждан в надежде, что земледелие – лучший путь к добронравию и миролюбию.
“Глубоко верю в то, — пишет М.Ауэзов, — что основной проблемой духовной жизни “осевой эпохи” была проблема единства и распада миров кочевья и оседлости”. К этой эпохе, видимо, и относится фатальное расхождение двух ритуальных стратегий, приведшее к возникновению диметрально противоположных типов культур: жреческая письменная культура оседлых народов, в основании которой лежит ритуал типа ведического жертвоприношения, и, во-вторых, шаманская устная культура кочевых народов, в основании которой лежит ритуал шаманского камлания. А в другом месте нами было доказано, что экспликация бытующих в шаманской культуре верований о шаманском избранничестве, шаманской болезни-смерти показывает, что в основе шаманства лежит представление об обращенном из иного мира в этот механизме жертвоприношения: камланию предшествует жертвоприношение, и шаман, чтобы стать шаманом, должен быть принесен в жертву из мира иного в этот своими сородичами-духами. Таким образом, возникает явное противоречие. С одной стороны, если в основе шаманизма лежит представление об обратном жертвоприношении, то получается, что жертвоприношение есть нечто более древнее и изначальное, чем шаманское камлание. С другой стороны, несомненно, что шаманская ритуальная стратегия, шаманский ритуал более тесно и непосредственно связан с изначальным, существующим до космоса хаосом и с возникновением космоса из хаоса. Шаман действует по законам (если таковые существуют) хаоса (природного, стихийного начала) как существо ему соприродное, принадлежащее ему от рождения. Камлание – мостик, связующее звено между космосом (человеческим коллективом) и хаосом (природой), а также ритуал сотворения первого из второго. Так рассмотренный шаманский образ действия, такая стратегия, бесспорно, являются более древними, лежащими в основании космоса, что фиксируется уже в мифологии, где бог варунического типа первенствует, и Ромул, а не Нума, основывает город.
Чтобы разрешить это видимое противоречие, более развернуто рассмотрим идеологию жертвоприношения, потому что в мировой гуманитарной науке ритуал жертвоприношени фиксируется как центр и “тайный нерв” ритуальной деятельности, как собственно ритуал, ритуал, так сказать, по преимуществу. Жертвоприношение в той или иной форме, скрыто или явно, как единственное содержание или один из эпизодов присутствует практически в любом ритуале традиционной культуры, в т.ч. и в шаманском камлании. Речь идет не только об обратном жертвоприношении, лежащем в основе феномена шаманства, но и о эпизодах жертвоприношения животных, включаемых в камлание. Кроме того, перенос шаманом болезни с пациента на себя можно интерпретировать как саможертвоприношение.
Всеобщность ритуала жертвоприношения связана с его функцией “делания” сакрального в результате принесения жертвы, которая отождествляется с расчленяемым и воссоздаваемым космосом. В идеале жертвоприношение выступает как самопожертвование при отождествлении жреца, жертвы и того, кому приносится жертва (ритуальное тождество). Например, в ведийском ритуале ашвамедхи – жертвоприношении коня “…речь идет о творении сакрального как жертвенного коня.., этот конь есть вместе с тем Праджапати (божество, создающее космос из собственного тела – ЗН), который, сотворив самого себя посредством ряда ритуальных действий.., затем, по истечении года (т.е. времени в образе года), приносит себя в жертву самому себе…”
Ритуал жертвоприношения выполняет свою функцию “делания” сакрального (жертва принимается, становится действительно жертвой, сакральным) и восстановления космоса, порядка, поскольку воспроизводит акт первотворения, что достигается через систему отождествлений не только космоса, жертвы, жреца и божества, но и времени жертвоприношения с временем (точнее, отсутствием времени, вечностью) первотворения, а места исполнения ритуала с центром мира. Время и место жертвоприношения являются прстранственно-временной точкой, в которой свернуты, уничтожены существовавшие до этого акта пространство-время, точкой потенциального бытия, зародышем нового пространства-времени, нового мира.
Жертвоприношение оказывается эффективным только в том случае, если его участники действуют, основываясь на ритуальном тождестве, осознавая свои действия как воспроизведение некоего идеального акта, свершенного некогда, “во время оно”, т.е. постоянно удерживая перед глазами определенную мифологему. Мыслящий подобным образом участник ритуала оказывается соучастником богов, его человеческие действия в единсстве внутреннего и внешнего, образа-мифологемы и ритуального акта, превращается во вневременное действие богов.
Высокая ценность жертвоприношения как точного воспроизведения божественного акта определяет канонизацию ритуала, что ведет к жесткому формализованному поведению его участников, так что не только действие, слово, но и, в первую очередь, содержание мышления человека предписывается ему, поскольку должно быть полностью адекватным заданной мифологеме. Стратегией ритуала жертвоприношения при работе с хаосом является создание системы тождества, формулирование определений и правил действия для его участников – членов коллектива.
Шаман всегда занимает особое положение в отношении ритуала жертвоприношения, будь-то представление о нем как центре ритуала, жреце и жертве, будь-то запрет на его участие в жертвоприношении даже как рядового члена коллектива. Это особое отношение является отражением специфического статуса шамана как существа инакового, пограничного, осуществляющего в ритуальной практике свою собственную стратегию, в принципе расходящуюся со стратегией канонического ритуала. Шаман работает с хаосом, уподобляясь ему, изнутри хаоса, как принадлежащий ему, как соприродное хаосу существо (подобно матери Ахиллеса – богине Фетиде – он без-образен, имея в то же время множество образов). Шаману осознанно или бессознательно присущ особый, инаковый тип поведения, вопринимаемый как нарушение нормы, отказ от законосообразности. Этот тип поведения связан с особой психической структурой шамана, заложенной в нем от рождения или сформированной в результате преобразования его сознания в опыте трагической пограничной ситуации, воспринимаемой обычно как кризис личности, ее смерть и возрождение в новом качестве.
Этот особый психический опыт, а не усвоение культурных норм, знаний, составляет сердцевину формирования шамана. Нет принципиальной разницы в уровне и объеме владения мифологическими знаниями между шаманом и другими членами коллектива, подобно той, которая существует между жрецом и не-жрецом в канонической традиции. Шаман в своем действовании полагается полагается не на точное знание правил и законов, их безусловное соблюдение, а на интуицию, связанную с пониманием глубинного смысла бытия, с чувством единства с миром. Он действует не в испокон веков зафиксированных рамках канонического ритуала, но в условиях принципиальной неопределенности, где существует лишь некая общая, достаточно абстрактная модель мироздания. Поэтому камлание шамана является не воспроизведением акта творения, но творчеством как таковым. Если участник канонического жертвоприношения представляет себя как маску, заместителя божественного участника первотворения, то шаман, маска которого включает самые разнообразные детали, представляет все сущее во всех его проявлениях и, одновременно, лишь себя. Он играет самого себя, точно так же как и другие члены коллектива играют самих себя, свой коллектив в целом и, в известных рамках, перенимают шаманскую стратегию действия в неопределенности.
Если в ритуале ашвамедхи сохранена идеология ритуала жертвоприношения как тождества бога, жертвы и жреца, то шаманское камлание, даже если оно не воспринимается как жертвоприношение, сохраняет это тождество практически. Шаман представляет собой демиурга, творца космоса и в качестве такового обожествляется, признается “живым богом”, “живым духом” наряду с “мертвым богом” – духом умершего предка. В то же время он отождествляется с природой, миром в целом, о чем говорит и его костюм, включающий множество личин, антропо- и зооморфных деталей, и его стиль поведения. Вращение шамана во время камлания имитирует вечное движение, вечное возвращение мира. Одновременно шаман – жертва, ведь он не только переносит на себя болезни пациентов, все негативное, накопленное человеческим коллективом, но и пронзает себя многократно оружием, ходит по горящим углям, т.е. различными способами осуществляет самозаклание. Его трансы – уходы в иной мир и возвращения – есть смерть и возрождение. Таким образом, шаманское камлание осуществляет на деле изначальное тождество. Если ведическая культура, сохранив идеологию тождества, утратила его практику, то в шаманской культуре произошло наоборот: тождество реализуется в камлании, но понимание его утрачено. Как было показано нами на материалах анализа эпоса “Алпамыс”, в ритуале жертвоприношения жрец и жертва жестко разведены. Под камлание шаманская культура подводит эту более позднюю идеологию распавшегося тождества.
Если различие двух стратегий, двух стилей — варунического и митраического, шаманского и жреческого — реально существует, то выделение двух типов культур — шаманской и жреческой — в соответствии с доминирующей в конкретной культуре стратегией достаточно условно. Чтобы существовать, человеческий коллектив должен осуществлять обе стратегии, одна из которых направлена на творчество нового, а другая – на сохранение и воспроизведение существующего. Тем не менее реально существует доминирование одной из стратегий, осуществляемой служителями культа – шаманами или жрецами (брахманами), — формирующей резко различающиеся типы культур.
Особая ритуальная стратегия шамана приводит к изменению сущности и способа функционирования ритуала в шаманской культуре, что может быть определено как тенденция аритуализации или тенденция превращения ритуала в игру, в ритуал проявления личностных качеств участников. В шаманской культуре трансформируется в известной степени даже ритуал жертвоприношения, частным случаем которого является игра кокпар. Сравнение аныз о Коркуте с сибирскими шаманскими легендами, реальная практика казахских баксы свидетельствует о размывани границ и форм ритуала камлания. Эта же тенденция характерна для ритуалов перехода, т.е. ритуалов изменения социального статуса человека (хотя сам переход занимает значимое место в традиционном мировоззрении как представление о возрасте “мушель”), типичным примером которых является ритуал инициации – испытания и посвящения – подростка, его перехода в статус мужчины, полноправного члена коллектива. В казахских фольклорных текстах заместителем инициации может быть признан ритуал первого выстрела, когда перед схваткой юный батыр представляет беспрепятственную возможность своему более опытному противнику сделать выстрел первым. Но если ритуал инициации имеет строго определенную форму испытаний и обязателен для каждого юноши, достигшего определенного возраста, то ритуал первого выстрела принципиально неопределен: место, время, противник, его сила и намерения остаются неизвестными. Алпамыс, знающий о своей неуязвимости, тем не менее, отказывается исполнять этот ритуал. Прошедший инициацию не подвергается ей вновь, а ритуал первого выстрела, в идеале, выполняется каждый раз при встрече с новым противником. Испытуемый и испытующий встречаются не как маски-личины, представители абстрактных свойств (например, старого и молодого), но как личности, отдельные люди со своими чувствами, желаниями, способностями, т.е. это уже не ритуал в строгом смысле, а некая игра, чреватая смертью, игра-гадание как оптимальная стратегия действия в неопределенности.
Шаманская стратегия изменяет не только сам ритуал, но и по-особому формирует отношения дела, слова и мысли в ритуале, а также отношения ритуала и мифа, миф как таковой. “Ритуал и миф…прежде всего выступают как сферы воплощения противопоставления делу слова, более того, как сильная позиция, в которой оба эти члена в наибольшей степени выявляют свою суть и свои возможности. В этих условиях проясняется… “внеязыковость”архаического ритуала, его как бы изъятость из языка по идее, притом что миф…является словом по преимуществу»” Ранее была показана принципиальность говорения, ино-говорения шамана, а кюй как форма развития этого ино-говорения в камлании казахского баксы. Камлание баксы выступает именно как “делание” мифа, творчество кюя как мифа, т.е. как система перенесения смыслов через границу миров. Миф, связанный с каноническим ритуалом, есть “слово”, говорение, членораздельная речь, формирующая мир как определенный, ограниченный, расчлененный. Кюй-миф как ино-говорение имеет синкретический характер, связан с переживанием мира вне слова и дела, через “неподвижное мышление” непрерывных образов.
Место канонического ритуала – в центре мира, он сам определяет этот центр. Шаман находится в центре мира и одновременно вне мира и на его границах, которые пронизывают само бытие.
Как канонический ритуал жертвоприношения, так и шаманское камлание связаны с особым, так называемым, мифопоэтическим восприятием мира, формирующемся в результате особого типа мышления в измененном состоянии сознания человека, которое в последние десятилетия является предметом интенсивных междисциплинарынх исследований американских социальных антропологов (К.Кастанеда, М.Харнер), психологов (Дж.Лилли, С.Гроф), российских ученых в рамках нейросемиотики (В.В.Иванов), а также в контексте изучения канонических текстов традиционной культуры (В.С.Семенцов). Некоторые особенности этого мышления, в корне отличающегося как от “образного”, так и “абстрактного”, как от научного, так и от мышления “здравого смысла”, были затронуты в первой главе (тотемизм, редубликация, ритуальное тождество). Здесь мы остановимся на особенностях этого типа мышления, важных как для понимания сущности ритуала вообще, так и различия двух ритуальных стратегий.
В первую очередь это мышление характеризуется единством действия, слова и акта сознаня, когда способности, воображение, внимание человека совершенно реально участвуют во внеинтеллектуальной деятельности. Мысль брахмана, молчаливо воспроизводящего определенные мифологемы, актуализирует их, превращая из знания в действие, деятельность, типологически эквивалентную произнесению гимна или совершению физического действия, и именно мыслительная деятельность брахмана придает смысл, целостность и ценность ведическому ритуалу. В практике йоги или дальневосточных единоборств при выполнении комплекса канонизированных поз и движений акцент делается на психофизическое единство, когда тело проникается сознанием, начинает мыслить в движениях, так что их выполнение становится способом активной медитации, слияния с Абсолютом. Учение телом, понимание телом является ключом к тайным знаниям индейцев яки у К.Кастанеды. Для обычного действия характерна разделенность замысла и исполнения, исполнение становится технкой. В ритуале действие, движение проникнуто сознанием (направленным на отождествление в каноническом ритуале или на инспирированный творческий порыв в шаманизме), физическое движение здесь – это способ существования мысли, духовного действия. Техника настолько высока и отточена, что исчезает, растворяется в мысли.
Такое сознание в единстве со словом и действием существует лишь в момент своего совершения, как переживание. Результат мыслительных операций для него не имеет значения, собственно говоря, мыслительные операции не производятся: мышление существует как “…максимально возможное сосредоточение внимания на том или ином образе при полном отказе от попыток его анализировать, расчленять и конструировать нечто другое”. Важен сам факт работы мысли, точнее, внимания в строго определенный момент ритуальной процедуры. Выражаясь кибернетически, такое мышление существует в реальном режиме времени, для него не существует прошлого и будущего, а лишь сиюминутное настоящее, воспринимаемое как отсылающее к времени сотворения мира, мифологическому, сакральному времени, иными словами, к вечности. Кроме того, для мышления, реального лишь в точке настоящего времени, не существует понятий временной последовательности, причинности, также как и понятия множественности: для него существует единственный факт-архетип сотворения мира в результате жертвоприношения и все множество фактов и событий воспринимается как воспроизведение и отражение этого единого факта.
Перечисленные особенности ритуального мышления отсылают к нейросемиотическим представлениям о различии в функционировании двух полушарий головного мозга, точнее, о специфике восприятия и обработки знаковой информации правым (субдоминантным) полушарием, характеризующейся, в частности, симультанностью (моментальностью, одновременностью), работой в режиме реального времени (только в настоящем времени), единством сознания и физических действий, предметностью, голографичностью (любая отдельно взятая часть содержит и воспроизводит полную информацию о целом), а также интуитивностью, непрерывностью. В основном, правое полушарие функционирует как обрабатывающее визуальную информацию, воспринимаемую как тотальные целостные образы, гештальты, а также звуки природы и нечленораздельную речь (ср. ино-говорение), т.е. звуковую информацию, не требующую разложения на дскретные элементы.
Правое полушарие также ответственно за формирование глубинных структур речевого высказывания, но испытывает серьезные затруднения при восприятии синтаксиса и глагольных форм. Тем не менее, при гиперактивации глубинных структур мозга оно способно с высокой скоростью формулировать членораздельные высказывания, составленные, в основном, из устойчивых словосочетаний, стереотипных формул и т.п. Эта ритмизированная, ассоциативная, образная, с трудом прерываемая речь лежит в основе характерных для традиционных бесписьменных обществ феноменов импровизаторства, сказительства и т.п. При одновременном функционировании обоих полушарий как речевых, эта бессознательно инициируемая правым полушарием речь воспринимается как обращение богов, духов, а речь левого полушария как собственная.
Для правополушарного мышления не существует формальной логики, различия между истинными и ложными значениями, вся получаемая и обрабатываемая информаця воспринимается как истинная.Таким образом, именно гиперактивация деятельности правого полушария головного мозга объясняет измененные состояния сознания, в которых человек (брахман, шаман и пр.) , не разрывая полностью контакта с обычной реальностью, погружается в особую реальность, существующую в особом времени. Тотальные визуальные или звуковые образы, инициируемые как получаемой извне, так и заложенной в глубинных бессознательных структурах мозга информацией, воспринимаются как глубоко истинные, единые, отражающие смысл бытия в целом. Этот механизм визионерства достаточно гибок ввиду склонности правополушарного мышления к синтезированию, комбинированию, многозначности, так что различные означающие могут восприниматься как передающие единое означаемое, обладающее полисемантичностью, в то же время единственное означающее (тотем, например) указывает на целый ряд означаемых.
Интересно отметить типологическое различие культур правополушарных (т.е. тех, в которых преобладающее значение имеет правополушарный тип мышления – Китай) и левополушарных (Европа). Основной знаковой системой китайской культуры является иероглифическая, точнее, идеографическая письменность, закрепляющая визуальные означающие первого порядка (понятие – иероглиф). Европейская культура использует дискретизированные означающие второго порядка (понятие – звуковое слово – алфавитная письменность). Казахская же культура не использовал исторически существовавшие виды письменности для фиксации возможных священных текстов, но создала кюй, преодолевающий противоположность право- и левополушарного мышления, кюй как Логос в первоначальном смысле, кюй как ритмизированный канонический текст принципиально бесписьменного общества.
Несмотря на общность механизма формирования особой знаковой реальности, ритуальные стратегии интерпретируют ее по-разному. “Можно думать, что вообще любая каноническая культура должна быть построена более или менее эксплицитно на принципе “кто так знает”, т.е. на интерпретации (и создании) особой реальности, исходя из зафиксированных в священных текстах мифологем, а также четкого разграничения этой особой сакральной реальности с обычной, профанной. Для шамана же не существует разделения сакрального и профанного, естественного и магического, более того, обе эти реальности, согласно К.Кастанеде, должны восприниматься шаманом как условные, сформированные “деланием”, навязанные рассказами. Главная задача воина-мага не просто увидеть один и то же предмет в обычной и особой реальности, глазами людей и глазами магов, но смотреть в щель между двумя картинками. “…Человек “видит”, когда ему удается пройти между двумя мирами – миром обычных людей и миром магов. Оба мира реальны, т.к. оба воздействуют на тебя, но “знающий”, “видящий” не привязывается накрепко ни к одному из них”.
Различие ритуальных стратегий связано с различием институционализированного положения жреца в канонической культуре как входящего наряду со своими учителями, товарищами, учениками в одну из каст, одно из сословий общества, изучающего фиксированные священные тексты и рецитирующего их в процессе своей ритуальной деятельности, и лиминального, пограничного, порогового положения шамана, который, выполняя социальный заказ, балансирует на грани природного и социального, существует в щелях, в промежутках социальной структуры, характеризуется набором амбивалентных качеств. Одна из его функций состоит в проведении в экстремальных условиях членов колектива, точнее, их душ через лиминальные состояния, т.е. шаман не просто лиминален сам, но и является проводником через лиминальность. Его от членов коллектива отличает не превышающее обычной уровень знание мифологем, но способность действовать на свой страх и риск в ситуациях принципиальной неопределенности, встречи с ранее неизвестным, так что усвоенные стандарты поведения могут оказаться препятствием для его успешной деятельности.
Различие ритуальных стратегий связано не только с различием социальных положений жреца и шаман, камлание является источником дополнительного, по отношению к жертвоприношению, способа социализации членов коллектива. В основе любой человеческой социальности лежит разделение мира на “свой” и “чужой” и ритуал жертвоприношения. В дальнейшем, оседлая западная культура, например, вырабатывает заменяющий (скрывающий) жертвоприношение правовой механизм, раздвоение мира абсолютизируется через разделение “чужого” на варварский, некультурный, дикий, с одной стороны, и идеальный, небесный, с другой. Эти чужие миры (проецируемые внутрь каждого “культурного” человека как фрейдовское подсознание и сверхсознание, например) – один как отвергаемый, другой как алкаемый, оказываются закрытыми, недоступными, непостигаемыми. Для кочевой культуры с ее устремленностью к границам миров, чужой, иной мир является столь же реальным и досягаемым, как и свой. Границы миров вполне проницаемы, а действия обитателей иных миров в целом понятны – это тот же ритуал жертвоприношения.
В результате представлений об обратном жертвоприношении становится возможным камлание как дополнительный, где-то альтернативный способ социализации. Члены коллектива объединяются не только в жертвоприношении, противопоставляя себя как коллектив жертве – козлу отпущения, но и в камлании как общеколлективном действе встречи, диалога с Иным на границах мира. Отсюда возникает параллель между обычаем круговой чаши (с вином) на пиру в самых различных культурах как трансформацией коллективной трапезы-жертвоприношения и казахским обычаем поочередного исполнения за угощением кюя, песни и т.п., где вместо чаши с вином по кругу ходит музыкальный инструмент (домбра). Музыка, как и поэзия, рассматриваются в традиционной культуре как речь ино-существ, далог с Иным. В рамках оппозиции камлание-жертвоприношение жертвенному вину-крови соответствует музыкальное произведение. Кровь жертвоприношения, сделавшего возможным камлание как контакт с иным, как ино-говорение, как творчество кюя, была пролита в ином мире. Кюй-крвь, песня-кровь приходят исполнителю оттуда, из другого мира, поэтому они священны.
В этом плане представляет интерес фигура сала (профессионального поэта, певца, кюйши, фокусника и др.), отдавшегося ( “салiну” – этимология Е.Турсунова) целиком чему-то за пределами данной общности людей, нарочито отвергающего все принятые нормы поведения и изобретающего свои собственные (или живущего по нормам иного, неведомого мира). Сал придумывает собственные фасоны одежды, посадку на лошади, заигрывает с девушками и молодками прямо на глазах их родственников, отказывается от труда до такой степени, что девушки и женщины аула, который он посетил, должны вносить его в юрту, умывать, ложить ему пищу в рот и т.п. Не только мирную жизнь, но и войну он превращает в праздник, выезжая на битву без доспехов, в своей вычурной цветастой одежде. Он проявляет чудеса храбрости, выказывая безразличие к смерти. Его жизнь – вечный праздник, праздник жертвоприношения, и он постоянно готов сыграть свою роль – роль жертвы на этом празднике. А может быть, подобно шаману, он уже сыграл ее, и потому он – сал, “отдавшйся” профессии жить не как все, неся людям радость музыки.
Различие ритуальных стратегий формирует кардинальное различие в способах существования человеческого общества вообще, определяемых как противоположность нормативной, институционализированной, абстрактной, иерархической структуры и спонтанной, непосредственной, неструктурной (или рудиментарно структурной) общины-коммунитас, в которой общение членов коллектива происходит прежде всего непосредственно как личностей, а не как представителей социальной иерархии.
В канонической культуре феномен коммунитас возникает периодически и локально в ходе ритуалов переворачивания структуры или перехода, тогда как в казахской культуре, сформированной шаманской стратегией, коммунитас введена в повседневную жизнь, ритуалы существуют как ритуалы-игры, ритуалы проявления индивидуальностей, личностных качеств и способностей (ритуалы первого выстрела, айтыс-тартыс, кокпар и др.).
Выше уже отмечалось почти полное отсутствие в казахской культуре ритуалов переворачивания иерархических структур, характерных, как показывает антрополог В.Тэрнер, для любого человеческого коллектива, будь-то африканская община, индийская классическая деревня, средневековая Европа или современное западное общество, когда люди на короткое время отказываются от ограничений, налагаемых культурой, сбрасывают социальные маски. Это деревенские праздники любви в Индии, итальянские и латиноамериканские карнавалы, рождественские обеды в английской армии, когда раз в году офицеры прислуживают за столом нижним чинам и т.д. Ничего подобного в казахской культуре не описывается. В качестве подобных ритуалов можно упомянуть лишь распространенный в некоторых местностях обычай, когда на Наурыз рядами напротив друг друга выстраиваются свекры и невестки, и между ними происходит подобие шуточной борьбы, тогда как в повседневной жизни их отношения строго регламентированы. Но здесь можно говорить о частичном снятии нормативных ограничений, но никак о ритуале тотального переворачивания иерархических структур.
Объяснение этому можно дать такое: ритуал переворачивания структур возможен там, где иерархия носит достаточно условный, искусственный характер, и социальные роли-маски могут быть сброшены на время. Место, занимаемое человеком в традиционном казахском обществе, в значительной мере определяется, так сказать, “естественными”, неотъемлимыми характеристиками: возраст, ум, характер, сила, количество детей, наконец. Такая естественная иерархия не может быть перевернута на время. В принципе, любой взрослый семейный казах “черной кости” являлся азаматом – полноправным гражданином – и был равен любому другому казаху. Выделялись только торе и кожа – потомки Чингис-хана и арабских миссионеров, т.е. опять же по природному, кровнородственному признаку. Впрочем, традиционно они и не относились к казахам: на этот факт указывал Ч.Валиханов, писавший также, что торе не имели права использовать общеказахский боевой клич “Алаш”, т.к. они не были потомками Алаша.
Обратной стороной повседневной коммунитас казахской культуры является оформление пожизненной лиминальности как социальной роли, маски. Если в других культурах такое положение имеет уникальный характер (придворный шут, юродивый), то в казахской оно становится уделом всех людей творчества – наследников Коркута (баксы, жырау, кюйши, сыпа, сал-сери).
Творческий человек одинок в любом обществе, но это его одиночество как личности, а его деятельность и ее плоды институционализируются. В казахской культуре одиночество творца – это не просто личная ситуация, оно формируется самим способом существования человеческого коллектива, в котором отсутствуют касты и сословия. Одинок не только инаковый человек, но и батыр – Тождественное культуры. Его одиночество приравнивается к одиночеству Всевышнего, возникает своеобразный культ одинокого воина со своим этикетом и божественным покровителем. Становится возможной своеобразная ситуация, когда человек (батыр, шаман и др.) одинок, но составляет идеальную коммунитас в диалоге со Всевышним, своими двойниками и душами.
Различия в ритуальной стратегии, призванной регулировать отношения космоса и хаоса, отразились в различии отношений природы и культуры, единого, стихийного (Дионисического, в терминологии Ф.Ницше) и индивидуализирующего, гармонизирующего (Аполлонического) начал культуры. В общем случае, культура – это дискретная, определенная, стабильная форма жизнедеятельности индивида, противополагаемая лежащей в ее основе природе. Такая культура выступает как некая буферная зона социальных стереотипов восприятия и поведения между зеркально-симметричными сакральными сферами, между полюсами человеческого творчества и темных глубин его психики, одинаково неосознаваемых, деиндивидуализированных, стихийных. Эта культура выступает как механизм институционализации, закрепления, наследования результатов творческой деятельности, что ведет к приращению, расширению поля культуры. Казахская культура не противополагает себя природе как стихийному темному началу и не формирует сакральное как оторванное от профанного. Она имеет характер природного, непрерывного процесса, так что творческое дионисическое начало выступает не как сила, разрушающая границы индивидуации, а проявляется в отдельных людях как прорастание индивидуального начала, личности, как сила, находящая и увлекающая за собой не массы, а отдельного избранника. Парадоксальный дионисический индивид принимает одиночество как социальную роль.
Особый тип отношений (прерывности и непрерывности) между природой и культурой предполагает особый тип исторического становления данной культуры, но для казахской культуры проблемой является не только уяснение присущего ей способа историчности, но прежде всего выработка соответствующего современной ситуации эффективного механизма социализации творческой деятельности, обеспечения исторической преемственности, который был разрушен вместе с прежним образом жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Различающиеся по подходам и формам исследования казахской культуры содержат глубокие и интересные положения о традиционном мировоззрении казахов, его открытости, близости природе, космичности, поэтичности, непосредственности, реалистичности и цельности, о влиянии кочевого образа жизни на национальный менталитет. Однако фундаментальное понимание требует анализа оснований культуры, в качестве каковых современная гуманитарная мысль рассматривает ритуал и миф. Гуманитарная наука второй половины ХХ века позволяет понять феномен отторжения оседлыми народами культуры соседей-кочевников. Издавна кочевая культура была подозрительной и опасной для обыденного сознания (если вообще признавался сам факт ее существования), странной и почти невозможной для науки. Как оказывается, причина этого лежит довольно глубоко – у основания человеческой социальности, человеческой культуры. Поэтому настоящее исследование было нацелено на изучение специфики традиционной культуры через анализ мифоритуального содержания фольклорных текстов. Такой подход позволил, по мнению автора, сформулировать выводы, имеющие ценность не только для понимания казахской культуры, но и типологии культур вообще.
В результате структурно-семантического анализа эпоса “Алпамыс” была показана его ритуальная основа, в частности, отдельные эпизоды эпоса рассмотрены как сформированные ритуалом жертвоприношения. Эпический батыр занимает центральное место в систем ритуального тождества как жрец, жертва и божество, вследствие своей тотемной природы, понимаемой эпосом как врожденное обладание батыром “природой волка” – небесной, истинной, вечной.
Как манифестация единой вечной силы, как герой-тотем и принцип социального космоса, эпический батыр представляет Тождественное казахской культуры, в целом подобное Тождественному любой другой культуры. Интерес представляет специфический способ конкретной культуры представлять и измерять, определять и сравнивать с помощью этого Тождественного. Таким мерилом для казахской культуы является доля тотемной сущности (“ул”), воплощаемая в атрибутах батыра, представляющих систему его двойников, носителей тех или иных аспектов тотемной сущности. Батыр, обладающий определенной долей “ул”, является Тождественным человеческой общности, выступает как ее нормативность, определенность, заданность и стабильность ее настоящего существования. Это явленное, материальное существование имеет позитивный смысл как проявление благого единого начала. Однако эпос “Алпамыс” несет следы утраты первоначального ритуального единства, связанной с представлением о распаде, раздвоении Единого, о двойнке Тождественного.
Для архаичного мышления характерно восприятие мира как проявления некоего единого космического начала, манифестация которого, раздваиваясь, существует как тотем и не-тотем, бытие и ничто, жизнь и смерть, свет и тьма. Современное развитие науки (нейросемиотики и нейролингвистики) показало глубокие корни этого двойственного восприятия, связанные (опосредованно) с различием в способах восприятия и обработки информации в двух полушариях головного мозга. Первоначально, один из двойников воспринимается как тождественное проявление космического принципа, в полной мере обладающее и передающее его сущность, а второй – как пустая форма, видимость, лишенная содержания, как отсутствие. Эта общая схема раздвоения единого в каждой культуре трансформируется по-своему, обогащается и интерпретируется: идея и форма, бог и дьявол, Ормузд и Ахриман, Инь и Ян наполняются в каждой культуре особым содержанием (материальность и имматериальность, этическая оценка или отсутствие таковой, активность или пассивность и др.), каждая культура уникальным способом воспроизводит взаимодействие двойников.
В рамках казахской культуры Иной (чужой) мир обладает такой же реальностью и ценностью, как и “свой” мир, мир людей. Его представитель – шаман – оказавшийся среди людей в результате жертвоприношения ино-существ, представляет собой “живого бога”, обладающего всем богатством Иных проявлений, прошлых и будущих существований, форм, манифестаций Единого. Такое Иное, обладающее более богатым содержанием, нежели Тождественное, чреватое множеством потенциальных возможностей, становится в образе Коркута, в мифе о Коркуте истоком казахской культуры, ее творческим началом.
Аныз о Коркуте – пророке, силою музыки борющемся со смертью, — представляют мифологические тексты, т.е. систему метафор, передающих миф – основной смысл бытия так, как он сформирован казахской культурой: дилемма подвижное\неподвижное, два разорванных мира, два образа смерти, две системы времени. На земле (в “этом” мире) Коркут бессилен против смерти, он укрывается от нее на реке как воде творения и границе жизни-смерти и, играя кюй, заставляет мир замереть, остановиться, он возвращает его к началу, к истоку времен, вводит в мифологическое время, которое есть вечность.
Казахская культура в аныз о Коркуте раскрывается как традиционная и, вместе с тем историческая, а не архаическая. Являясь наследницей древних культур, ощущая свое первоначало (единство Тождественного и Иного в образе батыра-шамана) как безвозвратно утерянное, лежащее за ее пределами, казахская культура принимает время как линейное, как поток, уносящий человека и мир все дальше от истоков. Для нее, в отличие от архаической культуры, смерть двойственна: это уже не просто скрытое, неявленное, свернутое состояние, существование в Ином мире, но и Смерть абсолютная, т.к. абсолютной для отдельного человека становится граница между “своим” и “иным”мирами. Полагая границу между мирами как абсолютную, Коркут формирует казахскую духовную традицию как постоянное стремление к этой границе, за пределы своего мира, своего бытия в поисках недостижимого начала. Бытие в казахской кульуре обращено (ищет свой смысл) не к своему центру, а к границам Иного. Казахское традиционное искусство, в особенности инструментальная музыка, воплощает прасимвол, идеал казахской культуры как устремленность за свои пределы, желание встречи с Иным.
Исследование в таком ракурсе казахской культуры значимо не только для понимания национальной культуры, но и типологии культур, феномена культуры вообще, т.к. казахская культура представляет наиболее ярко и завершенно тип шаманской кочевой устной культуры, противоположной типу жреческой оседлой письменной культуры, т.е. тому типу, который в гуманитарной науке рассматривается как собственно культура, культура как таковая. Исследование мифоритуальных оснований казахской культуры заставляет уточнить, дополнить, увидеть по-новому (или вернуться к первоначальному значению) категорий “миф” и “ритуал”, “природа” и “культура”.
Казахская культура, обращенная к Иному, указывает на миф как систему мировосприятия, предполагающую существование кроме обычного мира, обычной реальности некоего иного и столь же реального мира – мира небытия. Миф – это граница миров, определяющая и соединяющая их, это метафора – перенос смыслов и ценностей из одного мира в другой.
Для так понимаемого мифа языковая, словесная форма уже не имеет приоритетности. Основным способом существования мифа в казахской культуре является кюй как голос природы, выражающий закон космоса, т.е. кюй как Логос в изначальном его смысле, Логос- Слово и Закон космоса, но не в качестве членораздельной речи, а как голоса природы, звучащего в шуме воды, вое ветра, шелесте листьев, криках животных и птиц.
Кюй-Логос, согласно аныз о Коркуте, останавливает время, и это действительно так, ведь он изначально существует как знаковая система, строящаяся по законам визуального (непрерывного и симультанного) восприятия, законам обработки информации правым полушарием головного мозга. Конкретное функционирование кюя обусловливает восприятие иконических знаков кюя также и в качестве символических, а самого кюя как вторичной означающей системы, мифа. Иконически-символическая природа кюя, особенности его структуры позволяют не только сохранить его изначальную синкретическую природу, но и действовать одновременно по законам визуального и слухового, пространственного и временного, право- и левополушарного мышления, преодолеть пропасть между природным и социальным, синтагмой и парадигмой, синхронией и диахронией, ритуалом и мифом, мифом и музыкой. Особая семиотическая природа кюя позволяет ему выявить и выразить наиболее эксплицированно закон построения и функционированя мифологического текста, логику означающих, единую риторическую форму, которая в наше время является предметом и методом французского постструктурализма.
Феномен кюя определяется его функцией в ритуале шаманского камлания, ритуале встречи с Иным, диалога с ним на границах миров. Если канонический ритуал жертвоприношения (для которого характерна система отождествлений, центральное место в мировом локусе) в принципе отделен от словесного мифа, то шаманский ритуал камлания, (ставший возможным в результате представлений об обратном жертвоприношении и характеризующийся принципиальной непредсказуемостью, элементами игры и творчества, существованием на границах миров) направлен на кюй как ино-говорение, т.е. диалог шамана с Иным. Камлание есть творение кюя-мифа как изначального несловесного Логоса, вещания природы, космоса.
Кюй как ино-говорение обращен к иному в человеке, к его бессознательному. Феномен кюя как народной инструментальной музыки и его психотерапевтический эффект непосредственно связан со спецификой казахской культуры, Иное которой стало ее Началом.Он становтся возможным потому, что казахская культура не отделяет себя от природы как темного стихийного начала, воспринимая Иной мир, проецируемый на психику человека, как, в принципе, открытый и познаваемый, реальный и досягаемый (для музыки).
Если западная, например, культура противопоставляет себя природе в качестве культуры определения и ограничения, социальной иерархии, каст и других разграничений (проецируемых на психику человека как подсознание, сверхсознание и собственно культурное “Я” – насквозь управляемый и просвечиваемый человек), то казахская культура, формируемая шаманской ритуальной стратегией полагает себя как непрерывнй природный процесс, где общение людей происходит естественным образом, непосредственно как личностей, а не как ролей соицальной иерархии. Ритуал существует как ритуал-игра, ритуал проявления индивидуальных качеств, желаний, способностей, а искусство, самые высокие достижения национальной духовности, а так же и утонченный этикет как, в принципе, общедоступные, народные.В камлании возникает новый способ социализации человека, характерный для казахской культуры. Если в жертвоприношении члены коллектва объединяются против одного из своих -–жертвы, козла отпущения, то в камлании человеческий коллектив ощущает свое единство, оказавшись в ситуации диалога, эффективной встречи с Иным на границах миров.
Опыт кочевничества и опыт шаманства – опыт общения с Иным – закодирован в духовном наследии казахского народа, в частности, в его языке, лексике и синтаксисе. Этот язык мог бы стать для философи Иного, востребуемого современной духовной ситуацией в мире, тем, чем античные языки явились для философии Тождественного.
1994
ПОСТСКРИПТУМ 2003 г.
После защиты диссертации автору предоставилась благоприятная возможность познакомиться с Традицией как в ее общечеловеческом аспекте, представленном теоретическими работами Р.Генона и его школы, так и ее казахской ветвью в лице традиционных казахских музыкантов – хранителей сакрального знания Степи, таких как Т.Асемкулов. Поток совершенно новй информации вынудил автора переоценить произведенную в диссертации попытку реконструкции оснований традиционной казахской культуры. Многолетнее исследование предстало лишь как подготовительный этап к знакомству с чем-то по-настоящему значимым. В свете новых знаний ценность сохранили лишь некоторые основные положения, такие как представление об эпическом батыре как манифестации Божественного принципа, о кюе как логосе казахской культуры (по сообщению Т.Асемкулова, в казахской традиции существовало представление о кюе как шепоте Тенгри). Некоторые положения сохранили смысл как проявления интуиции направления исследования. Так, если в диссертации герои эпоса рассматриваются как двойники, ипостаси и атрибуты эпического батыра, а сам эпос как метафора странствий шаманской души, то в казахской культуре существовала традиция интерпретировать эпос как выражение происходящего в человеческом сознании, а героев эпоса как символов разных сил человеческой души: батыр – воля, возлюбленная – смысл жизни, мать – инфантилизм и т.д.1. Если в диссертации миф о Коркуте рассматривался как основополагающий миф казахской культуры и при этом сомнению подвергалась аутентичность корпуса фольклорных легенд о Коркуте, показывалась их противоречивость, то в казахской культуре на эзотерическом уровне существует представление о неантропоморфном Коркуте – ипостаси Тенгри (информация Т.Асемкулова).
Таким образом, диссертационное исследование утратило (по крайней мере, для автора) свою актуальность. Но в последний период завершенная почти 10 лет назад работа вновь привлекла внимание, потому что в ходе исследований многие разрабатываемые в ней темы получили новую интерпретацию, высветились новые перспективы развития затронутых вопросов. Вот некоторые из них:
Эпический батыр рассматривался как Тождественное казахской культуры. В статьях “Трайбализм, национальная идеология и будущее нации” и “Последний поход Кет-Буги: сакральная миссия кочевой цивилизации” развиваются идеи о тюркско-монгольских кочевниках как кшатриях (воинской касте) Евразии, о воинском истоке казахской культуры.
Выдвигается тезис об оружии как атрибуте батыра, метафоры его жизни. Эта тема получает развитие в вышеуказанных статьях, а также в работе “Изначальный ислам — тенгрианство в наследии жырау и национальная идея”. Независимо эта тема была развита С.Кондыбаем в книге “Введение в казахскую мифологию”, при этом он доказывает огненную природу оружия эпического батыра, что ассоциируется с манипуляциями раскаленным докрасна оружием во время шаманского камлания.
В разделы, рассматривающие природу феномена шаманства и казахского кюя ( в генезисе которого лежит особый психический опыт, полученный во время шаманского камлания, в результате чего кюй отражает структуру человеческой психики, оказывает на нее целебное воздействие) необходимо ввести поправку: следует говорить не столько о психическом, сколько о духовном опыте и духовной реальности. Смешение, неразличение этих двух разноуровневых феноменов – характерный симптом нашей эпохи. Духовный, инициатический опыт представляет реализацию метафизического знания Традиции, т.е. он выходит за рамки чисто индивидуального . Касательно казахской культуры этот вопрос затронут в статье “Реальность духа: Казахская традиция в книге М.Магауина “Я”
В диссертации выдвигается тезис об обратном жертвоприношении: шаман, изначально принадлежащий иному миру, приносится в жертву из мира иного в этот, и именно благодаря этому становится возможным камлание, шаманское посредничество между мирами. В диссертации было показано, что батыр-тотем приносится в жертву из этого мира в иной и становится для человеческого коллектива “мертвым духом” (по выражению Ч.Валиханова), тогда как шаман, чтобы он мог стать шаманом, приносится в жертву из мира иного в этот и становится дл человеческого коллектива “живым духом” (опять же по выражению Ч.Валиханова). Это имплицитно заложенное в основе шаманства представление было выявлено в результате анализа шаманских легенд, но, признаться, истинный смысл и значение его стало ясно автору лишь теперь, в контексте истории религий. В тот период это представление казалось результатом инверсии, зеркально-симметричного переноса о жертвоприношении тотема на иной мир. Если же обратиться к более поздним религиям, сохранившим догматы в письменной форме, то можно увидеть, что представление о жертвоприношении ино-существа в этот мир не является экзотичным.
В брахманической мифологии существует понятие об “аватаре” – нисхождении божества на землю, его воплощении в смертное существо ради спасения мира, восстановления справедливости и т.д. Зарождение понятия отмечено в брахманах, но возникло ли оно в этот период на “ровном месте”? Опираясь на эксплицированное нами представление об обратном жертвоприношении шамана, можно предположить, что оно существовало неявно и в более ранний, ведический период, когда шаманство было широко распространено в индоевропейском обществе. Позднее, с исчезновением (по крайней мере, в ортодоксальной среде) реальной практики шаманства, лежащее в его основе представление было эксплицировано, осмыслено и закреплено в брахманической мифологии специальным понятием. В буддизме величайшими боддхисатвами являются те, кто достигнув “противоположного берега” – нирваны, отказываются от полной нирваны, предпочитают остаться в “колесе жизни”, подчиниться законам кармы ради спасения всех живых существ. Если обратиться к аврамическим религиям, то представления о мессии, Христе, Махди связаны с идеей посланника из высшего мира, жертвующего собой, сходящего в этот мир для его спасения. В христианской традиции космогония, сакральная история и эсхатология рассматриваются как процесс божественного кенозиса (“истощения”), т.е. жертвенного самоумаления Бога.
В науке существовали и существуют самые разные представления о шаманстве, начиная с мнения Х1Х века о симулянтстве и психической болезни шамана и до интерпретации шаманства как архаической мистической техники (М.Элиаде) и натурфилософии (Л.Гумилев). Л.Н.Кызласов рассматривал шаманизм как осколок универсальной евразийской (по меньшей мере) проторелигии. Многие ученые отмечали структурное тождество шаманского и пророческого экстаза. Так, например, Исра Ва-Л-мирадж (“ночное путешествие и вознесение”) пророка Мухаммеда состоит из двух этапов: 1) путешествие в “мечеть отдаленнейшую” (т.е. к центру мира), где произошла совместная молитва с предыдущими пророками, ангелы рассекли грудь и очистили сердце Мухаммеда; 2) вознесение к Аллаху на верховом животном. Шаман во время посвящения подвергается аналогичным манипуляциям со стороны духов, а его экстатическое путешествие, как правило, состоит из двух этапов: полет к центру мира, к Мировому Дереву, а затем вертикально вверх, к Богу, при этом музыкальный инструмент символизирует верховое животное. Опираясь на тезис об обратном жертвоприношении шамана, можно заключить, что последующие религии унаследовали от шаманства не только идею шаманского\пророческого экстаза, но и идею “живого духа”, нисхождения в этот мир — самопожертвования высшего существа ради его создания, установления в нем порядка и справедливости, его спасения и пр. В этих более молодых религиях идея эта была сохранена на эксплицитном уровне, развита и удержана как представление об единичном, уникальном факте, а в шаманстве она продолжала существовать имплицитно и реализовываться на практике (см. символизм действий шамана во время камлания как жертвоприношения, как космогонии, его одежды как космоса в целом и т.д.). М.Элиаде интерпретировал манипуляции шамана (он протыкает себя раскаленным докрасна оружием, лижет раскаленное лезвие топора, ходит босиком по раскаленным углям) во время камлания как действия, которые должны доказать сверхчеловеческую, чисто духовную природу шамана в экстатическом состоянии. Суть этих испытаний не в проверке способности шаман переносить ужасную боль, а в том, что он не чувствует этой боли, раскаленное железо и угли не оставляют следов на его теле, т.е. шаман преодолевает законы физического мира, доказывает свою инаковость.
Такое понимание природы шаманства (разумеется, речь идет не о конкретных шаманах как таковых, а о феномене в его предельном, идеальном смылсе, об архетипе шаманства) позволяет более четко сформулировать и развиваемые в диссертации (вслед за Ж.Дюмезилем и В.Н.Топоровым) представление о существовании двух ритуальных стратегий (религиозных стилей), а также выдвигаемый на этой основе тезис о специфической природе шаманской культуры, культуры, в основе институтов которой лежит шаманская ритуальная стратегия. В свое время официальный оппонент диссертации д.ф.н., проф. Б.Г.Нуржанов отмечал спорность этого тезиса: камлание – одна из форм жертвоприношения, поэтому два этих ритуала не могут быть противопоставлены, так же как и соответствующие им ритуальные стратегии и типы культуры. Говорить о двух ритуальных стратегиях и соответствующих типах культуры можно только если принимать их как одновременные и потому альтернативные, в то время как они на деле представляют две разные стадии культуры : раннюю – кочевую, шаманскую и позднюю – оседлую, жреческую. Эта критика одного из основных положении диссертации вполне логична и находится в русле современной европоцентристской культурологии, опирающейся на представление о прогрессе, о линейном развитии от менее развитых форм к более развитым, так что эти менее развитые, ранние формы имеют смысл и ценность лишь как ступень к более поздним. Пафос же диссертации (что, надо признать, выходит за рамки “строгой” науки) заключался в утверждении существования и самоценности особого типа культуры кочевой, шаманской, устной, имеющей собственную цель и логику развертывания.
Теперь мы можем более осознанно сформулировать свою точку зрения. Для начала обратимся к аналогии: представьте себе два вулкана – действующий вулкан и потухший вулкан, точнее, вулканический остров – на остывшей лаве образовался слой почвы, занесена флора и фауна. Можно говорить о том, что действующий вулкан – это ранняя стадия, ступень к возникновению вулканического острова со всем богатством органической жизни. Более того, потухший вулкан удобно исследовать: при желании можно даже спуститься в кратер, изучать жерло, в то время как с действующим вулканом такие вольности невозможны. Но, с другой точки зрения, действующий вулкан – это живой, настоящий вулкан, а потухший – уже не совсем вулкан, вулкан бывший. Как выбирать между завораживающей красотой первозданной энергии огненной лавы и цветущим разнообразием, возникшем на потухшем вулкане. Или другой пример: для сторонников прогресса традиционное общество – ступень к современному, научно-техническому, а для традиционалиста современное общество – результат деградации, вырождения традиционного. В чисто временном плане традиционная культура действительно является более ранней, но при параллельном существовании традиционной и современной культуры они могут рассматриваться и как альтернативные.
Шкала ценностей всегда относительна. Говоря о кочевой и шаманской культуре как архаичной, мы подспудно вносим оценочный фактор в по-видимости объективный научный анализ, т.к. в современном языке понятие “архаичный”имеет вполне определенную ценностную нагрузку – не просто “ранняя”, “древняя”, а “отсталая”, “неразвитая”, представляющая в лучшем случае ступень, пролог к чему-то более важному, прогрессивному. Весь вопрос заключается именно в интерпретации: если следовать логике традиционализма до конца, придерживаться теории деволюции, то шаманская устная кочевая культура – это не просто более ранняя по отношению к жреческой письменной оседлой культуре форма, она ближе к Истоку, к Истине. В общем-то, этот подход уже реализуется при сопоставлении устной и письменной культуры (необходимость в письменной фиксации возникает с началом деградации традиции, утратой ею способности к постоянной и полной реактуализации), кочевничества и оседлости (для Р.Генона уничтожение кочевничества и расширение оседлости равнозначно тенденции к “отвердению мира”, утрате им духовности).
Если продолжить это сопоставление, шаманство предполагает систематическую личную реализацию духовного опыта, который в жреческой культуре имеет уникальный, единичный характер – аватара, мессия, пророк. Жрецы приходят после пророка, оформляют его откровение и сопротивляются следующему пророку. Разумеется, подлинное традиционное жречество предполагает инициационный опыт. Но это опыт уже известного, в рамках фиксированной письменной традиции, в то время как шаман действует спонтанно, свободно импровизирует как существо чисто духовное, “живой дух”. И вся культура строится вокргуг этого живого личного опыта взаимодействия с иным. В диссертации отмечалось, что на основе шаманской ритуальной стратегии возникают несвойственные жреческой культуре, дополнительные способы социализации, сравнивался обычай круговой чаши с жертвенной кровью, возникающей из ритуала коллективной трапезы – жертвоприношения и казахский обычай, когда по кругу идет домбра, коренящийся в ритуале камлания. У Т.Буркхардта указывается, что чаша имеет символизм пассивного соучастия в Божественном, а музыкальный инструмент, лютня (домбра – разновидность лютни) символизирует активное соучастие в сакральном действе.
В этом контексте необходимо переосмыслить и сказанное в диссертации об особой природе ритуала, о коммунитас, об отношении к природе в казахской культуре. Таким образом, действительно являясь более ранней формой традиции, шаманская культура может и должна рассматриваться как (по меньшей мере) самоценная по отношению к жреческой. Разумеется, сказанное выше может быть применено для теоретического исследования наших духовных,культурных и исторических корней, но не в качестве программы сегодняшнего дня. Наш взгляд на современную духовную ситуации в достаточной степени выражен в разделе “Тенгрианство и ислам” статьи “Изначальный ислам тенгрианство в наследии жырау…”