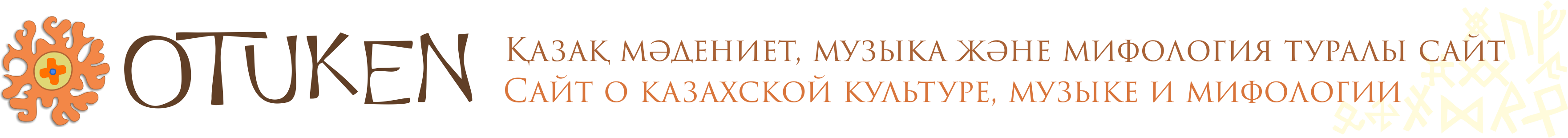Зира Наурзбаева: Канат, Ваша статья в первом номере альманаха «Послестепная культура: счастье, бессчастье, несчастье нашего места и времени» получила большой резонанс среди читателей. Нельзя сказать, что я полностью согласна с теоретическим посылом статьи, серьезные критические замечания у меня как специалиста по традиционной культуре вызывает Ваш разбор традиционного общества как родового организма и не более. Соответственно, у меня другое отношение к потенциалу традиционной культуры в современном мире. Но статья восхищает прежде всего позитивным настроем, устремленностью к самоутверждению, к культуротворчеству.
Канат Кабдрахманов: Эссе, которое Вы похвалили, за что сердечное спасибо, есть часть книги, которую я пишу в эти годы, «Степной персонализм». В этой книге я хочу прописать систему мировоззрения, которое уже реально существует и развивается, но еще никак культурно не идентифицировано. Как известно, мировоззрение – это культура существования, культура проживания жизни. Мировоззрение книги «Степной персонализм» я называю мировоззрением «да», подданством идеи утверждения. Это мировоззрение человека нашего места и нашего времени, послестепного человека. Наши пращуры были степными людьми, мы – послестепные люди. Наша культура проживания жизни сыновня по отношению к культуре проживания жизни наших предков, но это другая культура. Как современная западная культура сыновня по отношению к культуре античной. Это разные культуры, западная и античная, но у них общий исток. Нужно окончательно признать: произошла смена эпох. Не вчера, не в ХХ веке, но в нашем казахском мире уже произошла смена эпох: родовой эпохи на послеродовую. Степной эпохи на послестепную. Это я осознаю отчетливо. Я, как и все мои современники, не видел классического родового образа жизни, не видел традиционализма в жизни живых людей. Традиционализм для меня, как и для большинства современников, есть область преданий. Традиционализм как культура есть для нас то же самое, что античная культура для западного человека. Разница в том, что античную культуру западный человек может изучать по книгам и другим достоверным источникам, а традицию жизни в роде мы можем знать только по слухам. Но мы не можем на слухах построить жизнестойкую систему мировоззрения. Степной персонализм сыновен по отношению к традиционализму наших пращуров, в степном персонализме есть этническое культурное ядро, и в этом смысле степной персонализм нисколько не копирует западный персонализм. Это наш, степной персонализм.
Наш персонализм ведет свое происхождение от катастрофы, в нем нет эволюционного культурного развития индивидуума. Геноцид, который мы впервые испытали в XVIII веке, затем другими поколениями познали его в ХХ, были теми потрясениями, которые нечто разрушили, без этого витального нечто дух противостоять невзгодам не может. Я вошел в самостоятельную жизнь в состоянии духовного осколка. Мое сознание было осколочным, ужасающе одиноким. Для того чтобы стать человеком, способным жить, я должен был что-то с собой сделать. Нечто подобное тому, что я делал со своей жизнью на протяжении двух или трех десятилетий, делали и все мои разумные современники. Мы осознанно добирали самодостаточности, мы трансформировали осколок своей духовности до состояния целостности. Когда я стал осознавать, что состояние целостности почти достигнуто, пришло название этого рода казахской духовности – степной персонализм.
З. Н.: Духовная традиция у нас понимается на каком-то бытовом уровне. В третьем номере альманаха мы опубликовали главу из книги основоположника западного традиционализма ХХ века Р. Генона «Обычай против Традиции». Для казахстанского читателя, думаю, будет полезно понять, что Традиция – это не есть то, что люди делают по привычке, автоматически, потому что так было заведено кем-то когда-то. Традиция – это форма передачи сверхличностного знания, Откровения. Вы в своем персонализме признаете существование внеперсональной, внечеловеческой идеи, и это признание фактически сближает наши позиции.
Я также полностью признаю то, что Вы говорите о эпохе советского коллективизма. Но ставить его в один ряд с традиционной эпохой было бы неправильно. «Там правда жизни была одна – та, что довлела над человеком, принуждала, судила, пребывала всегда вовне человека». Надо четко понимать, что традиционная культура состоит из двух основных компонентов: нормативная культура – сфера регулирования жизнедеятельности обычного среднего человека, то, что Вы называете родовой жизнью, и высокая культура – сфера личностной реализации людей, которых обычная жизнь не удовлетворяет. В этой сфере существовало множество вариантов и возможностей реализовать личностный потенциал на благо нации в целом. Если «о жизни в роде» действительно мы можем говорить только приблизительно, то высокая культура запечатлена во множестве произведений литературы и музыки. Пусть эти тексты не всегда точно зафиксированы, пусть фиксация не передает оттенков исполнительской интерпретации, атмосферу исполнения, которая так важна в устной культуре, но все-таки о гадательности здесь не может быть и речи.
Казахская поговорка гласит, что одиночество свойственно лишь Тенгри. В то же время в эпосе подчеркивается: «Путь влюбленного – особый путь». Эпический батыр всегда одинок, даже если у главного героя эпоса есть брат-близнец, батыр будет «жаловаться» на отсутствие братьев, на свое одиночество, это одиночество по определению, не в физическом или социальном плане, а именно в духовном. Тема одиночества музыканта широко представлена в инструментальном искусстве даже у тех композиторов-кюйши, которые считаются чисто традиционными. Уже на уровне поговорок представлена тема одиночества шамана-баксы, т.е. в традиционной культуре очень четко осознавалась необходимость этапа одиночества для развития творческой личности.
Казахская религиозная традиция отрицает какую-либо соборность, общинность и пр. в делах нравственных, духовных. Тенгрианство не предполагает коллективного или конфессионального спасения: «Даже если от отца вас родилось шестеро, перед Всевышним ты предстанешь один». Наряду с этим существовало множество институтов, в которых такая творческая личность могла найти общение и поддержку себе подобных, обрести высокий социальный статус. Прежде всего это своеобразный кочевой вариант военно-духовного ордена – сал-сери.
Если говорить о родовой жизни, то и здесь правда жизни не была внешней по отношению к человеку силой. Если развивать сравнение рода с живым организмом, для пальца или любой другой части жизнь целого организма не является чем-то внешним, действующим принудительно. Часть насыщается кровью и дыханием, чувствует и действует слитно с целым. И это касается не только физической жизни. Коренное отличие традиционного общества от современного в том, что все сферы жизни самого обычного человека были проникнуты духовным смыслом. Этот самый обычный человек был не автоматом на работе и потребителем культурного продукта на отдыхе как современный человек, а демиургом.
К. К.: Охотно допускаю, что жизнь наших пращуров была высокодуховной. Батыры, акыны, шаманы были столпами казахского мира. Столпы всегда одиноки, их жизнь вдохновляет идея служения соотечественникам и родине. Персонализм не имеет ничего общего с индивидуализмом, персонализм – индивидуализм наизнанку. Индивидуалист все без остатка поглощает, персоналист создает и излучает. В сути персонализма заключена идея служения, что, как известно, есть основа свободы. Персонализм нисколько не противопоставляет себя традиционализму, разность в том, что традиционализм есть духовность коллективного существования, а персонализм – духовность отдельного существования. Роднит их идея добровольного служения нравственному канону, который всеобщ как для морали традиционализма, так и для морали персонализма. Но если в традиционализме идея служения канону подпитывается ожиданиями и нуждами коллектива, то в персонализме служение канону выражает дух личностной созидательности, ищущей сотрудничества. Но на протяжении ХХ века традиционализм выродился в обычайность, обрядность, во все то, что городские казахи излишне чувственно, но справедливо отрицают.
З. Н.: В статьях «Трайбализм, национальная идеология и будущее нации» и «Современный менталитет и кочевая культура» я показывала, что общество страдает от того, что наиболее деградировавшие, превращенные элементы традиционного менталитета вступают в синтез с поверхностными элементами экспортированных систем – тоталитарной и рыночной. Результаты этого синтеза чудовищны. Поэтому, когда мы говорим о традиции, о реконструкции традиции, речь не идет об искусственной архаизации общества, возрождении родового устройства. Мы говорим о нерастраченном потенциале высокой культуры, культуры, чье развитие было прервано внезапно и насильственно. Понятно, что духовные институты, существовавшие в этой сфере, уже невозможно воссоздать, да им и нет места в современной жизни… И все-таки.
В связи с проектом послестепной культуры у меня есть два вопроса, которые я часто задаю сама себе. Первый из них таков: родовые отношения когда-то были нормальным способом организации социума, но теперь в современном обществе позитивной роли они не играют (мне не приходилось видеть, чтобы состоятельные люди именно из родственных чувств помогали сиротам и вдовам, а также творческим людям), но зато становятся одним из элементов клановых игр, подпитки амбиций и пр. Но возможно ли вообще отказаться от них?
Не скрою, не будучи трайбалистом, я с удовольствием читаю об истории своего рода-племени, рода-племени моей мамы, пытаюсь увидеть, насколько возможно, родовые характеристики тысячелетней давности в своих современниках. Возможно, это чисто научный интерес – проследить связь генезиса, мифологии какого-то казахского субэтноса с этнографическими данными XIX-XX века, но в той или иной мере подобный интерес присущ многим казахам. Где грань между интересом к истории и трайбализмом?
С другой стороны, путь, который Вы предлагаете – отринуть остатки лже-коллективизма, стать персоной, самостоятельной планетой и потом уже в качестве этой самостоятельной планеты вступить в свободные отношения с другими персонами-планетами – этот путь приемлем для единиц. Большинство населения в любые времена в любом обществе не склонно пролагать свой собственный путь, ему необходимы заранее заданные образцы поведения. Возможно ли для элиты осознанно сформировать и предложить такие образцы, то, что называется национальным проектом? Как это сделать? И второй вопрос, который я постоянно задаю себе, как, каким образом традиционная духовность, высшие достижения национальной культуры прошлого могут присутствовать в сегодняшнем дне? Понятно, что традиция не есть что-то застывшее, заскорузлое, что формы меняются с течением времени. Но большинство национальных культур развивается эволюционно, движение нашей культуры было насильственно прервано. В попытке найти свои истоки мы оказываемся между угрозой реархаизации, превращения своего культурного наследия в музейную экспозицию и угрозой под флагом осовременивания опошлить, исказить, окончательно утерять то, что составляло суть нашей культуры.
Вы говорите о том, что послестепная культура является наследницей степной культуры, Вы также как-то говорили об этническом ядре. Как Вы понимаете это наследование, как этническое ядро может проявляться в послестепной персоне?
К. К.: На Западе уже около десяти лет действует и выпускает журналы «Форум персоналистов». О форуме я узнал из Интернета. Каждые два года персоналисты из разных стран собираются в одном месте, чтобы послушать друг друга. Упомянув о форуме, рискую представить персонализм как некую духовную секту. Ничего подобного. Папа Иоанн Павел II очень много пишет и печатает о персонализме, Христос был персоналистом, Будда, Магомет. Всякая духовность, предполагающая прежде всего личную ответственность за свою жизнь и свой жизненный путь есть духовность персоналистская. Следующий форум состоится в этом году, постараюсь принять участие в нем.
Я принципиально не согласен с тем, что персонализм есть удел единиц. Напротив, в наше время только в культуре персональности возможно достойно прожить жизнь. В отсутствие культуры персональности мы не жизни проживаем, а плоти переживаем. Расплата за это известно какая.
Национальный проект как проект созидания нации я понимаю как проект созидания и пропаганды современного гармоничного мировоззрения. Ни на йоту не заемного, ни на гран не имитирующего культуру другого народа. Я вижу начало этого проекта в идентификации современного казахского характера – так понятнее именуется национальная духовность. Чем казах XXI века отличается от своих пращуров? В чем един с пращурами? Какие черты нашей духовности способствуют нашему качественному существованию на арене мира, а какие мешают. Десять-пятнадцать эссе на тему «Казахский характер» проявят сущность современного казахского характера. Затем можно будет формировать национальные культурные программы по пропаганде классического образа казаха XXI века.
Во всех нас существует всемогущественное этническое культурное ядро. Это наше национальное культурное достояние. Явление как классическое, так и динамичное. На культурном ядре мы должны основывать свои культуростроительные проекты и ни на чем другом. Всякого рода реставрации обречены на непризнание и провал.
З. Н.: Этот разговор мы ведем на русском языке. В своих рассказах Вы сравнивали чужой язык с жестяными доспехами. В рассказе «Куралайка» Вы пишете: «Мы оделись и пошли завтракать. И снова говорили на языке, сравнимом с дребезжанием стекол. Это особенный язык. Человек ничего не чувствует, говоря на чужом языке. Мы произносили не слова, на нас гремели жестяные одежды». В контексте Ваших идей о степном персонализме, послестепной культуре, какое место занимает язык?
К. К.: Я думаю, говорю и пишу на русском языке. Русский язык мне родной. Но моей жизнью правит не грамматика, а культурное ядро. Когда учился в Литературном институте, считалось, что принадлежность писателя к некоей культуре определяется языком творчества. Я думаю, что это чушь. Язык – инструмент самовыражения персональности, искры Божьей. Персональность, несмотря на универсальность своих законов, до тех пор глубока и неизменяема, покуда жива, этнична. Наши персональности иррациональны, наши персональности изъясняются на языке побуждений, не на языке слов. Побуждения не нуждаются в словах, побуждения – бессловесные мотивы поступков. Искра Божья не болтает, а действует, если ее не загасили.
До упоминавшейся книги я не знал, что язык персональности – поступки. Один из обликов персональности, язык, принимал за сущность, что было заблуждением.
Не понимаю и не хочу понимать катастрофистов. Они настоящие кликуши. Наш завтрашний день мне представляется сказочно волшебным. В нас, народе, за многие века ничегонеделанья накопилось очень много духовной энергии, теперь эта энергия ищет своего созидательного выражения.
З. Н.: Как показала эта беседа, у нас много точек непонимания. Если бы в беседе приняли участие другие авторы альманаха, вполне возможно, количество таких точек увеличилось бы в геометрической прогрессии. Но то, что мы начали такой диалог, важно уже само по себе.
Письмо Канату Кабдрахманову
Уважаемый Канат!
Может показаться странным само мое намерение написать Вам в качестве послесловия к нашей беседе письмо, при том что мы достаточно часто встречаемся, обсуждаем общие творческие планы. Но, как не раз Вы подчеркивали, в нашей ситуации переходной культуры зафиксированное слово – текст – имеет особое значение и смысл, становится поступком. Мы, казахи начала ХХI века настолько разные, что попытка диалога на бумаге по существу предстает как два монолога. Поэтому, прочтя статьи, предложенные Вами в этот номер альманаха, я решила, не прибегая к этой все еще искусственной для нас форме, высказать Вам свои возражения.
В выходных данных альманаха, как это принято, указано: «Мнение редакции…» Но наш журнал представляется мне не обычным СМИ, трибуной для всех, а клубом интеллектуалов, для которых небезразлично будущее нашей страны. Мы придерживаемся по многим вопросам разных позиций, но я очень хорошо понимаю Вашу боль и Ваш энтузиазм, то, что движет Вами, я отдаю должное Вам как искреннему, думающему человеку, осмысляющему действительно важные для нации вещи. Поэтому и противоречия, возникающие в наших взглядах, это не чисто личные противоречия, а нечто более значимое, должное быть выраженным.
Ситуация такова, что мы все маргинальны, даже и особенно те, кто считает себя сугубыми почвенниками. Некоторые из интеллектуалов превратили свой маргинализм в политическую платформу, в достаточно выгодный бизнес. Вы же осознаете и проговариваете маргинализм не просто как боль, но как движущую силу к сотворению чего-то небывалого. Вы победили разрушительность маргинализма и находитесь на пути к созиданию. «Я принимаю на себя ответственность за судьбу этой земли и этой культуры, тем самым я уже не маргинал, а столп этой культуры, этой нации», – кажется, так можно суммировать Вашу позицию как персоналиста.
Эта Ваша позиция, то, как Вы ее выражаете в тексте, восхищает меня, так же, как и большинство читателей нашего журнала. Кое-какие моменты вызывали у меня возражения (часть из них высказана в беседе). Но известно, что любое четко сформулированное утверждение выражает лишь одну сторону истины, имеет антитезис, всегда может быть аргументировано оспорено, такова природа земной жизни, природа человеческого рацио, языка. Тем более, что если Вы и ошибаетесь в своих высказываниях насчет традиционной культуры в абсолютном смысле, в этих же высказываниях Вы фактически правы по отношению к абсолютному большинству нашей нации, потому что для абсолютного большинства, даже и казахскоязычного, традиционная культура предстает именно как родовые (давно уже выродившиеся) отношения, а не как искусство высочайшего уровня (этому искусству, его лучшим проявлениям, просто нет места в современной жизни). Поэтому я не стремилась полемизировать с Вами на эту тему.
Но если всерьез говорить о проекте послестепной культуры, основанном на некоем неопределимом этническом ядре без высших достижений степной культуры, то это было бы непоправимой ошибкой. Во-первых, мы признали бы, таким образом, колониальный идеологический стереотип о том, что у казахов не было ни истории, ни культуры, а лишь фольклор. Во-вторых, и это самое главное, Вы сравниваете послестепную культуру с кустарником, когда каждый человек по отдельности тянется от корня степной культуры, представляет отдельное бытие, но единого ствола нет, нет единого канала связи между корнями – степной культурой и кроной – будущей послестепной культурой. «Сколько живых человеков, столько и каналов связи с отеческой культурой. Бытованиями своими мы не продлеваем традиции наших предков, вот что важно, но мы, каждый, имеем персональную интимную связь со своими предками, что есть ни с чем не сравнимая и мало в чем выражающая себя сыновность послестепной культуры по отношению к нашей этнической культуре» (подчеркнуто мной).
Безусловно, есть своя логика в том, что Вы говорите. Но эта логика обрекает нас на кустарниковое существование. Да, каждый прутик кустарника, как и всякое растение, имеет корни и тянется вверх, к небу (вообще, растение символизирует это стремление ввысь). Но все-таки кустарник есть кустарник, ему никогда не сравниться с мощным деревом, ветви которого в облаках. И не только каждый из нас остается кустарником, но и вся послестепная культура не может не быть чем-то очень приземленным в таком раскладе. Смысл любой настоящей культуры в том, что последующее поколение возносится вверх на плечах гигантов.
Знаете, Канат, у меня очень серьезные возражения относительно Вашей аналогии степной и послестепной культуры с античной и современной западной. Я бы скорее сравнивала их с классической и современной немецкой. Это не формальность. Большинство современных западных людей не знают древнегреческого, не читают в подлиннике Софокла и Гесиода, но это никак не отрицает факта античных корней современной западной культуры. В то же время трудно говорить о современном культурном немце, не знающем немецкого, не имеющего представления о творчестве Гете или Моцарта.
Ваша коренная ошибка в том, что Вы упорно отрицаете за традиционной культурой какое-либо значение, кроме родовых отношений, о которых, как Вы говорите, нам известно только лишь по слухам. Вот же они тексты, тексты степной культуры – устная поэзия, музыка, изобразительное искусство. Их можно интерпретировать, исходя из потребностей сегодняшнего дня. Есть еще люди, которые понимают и интерпретируют их так, как их учили учителя. Даже во второй половине ХХ века творили композиторы, которые в форме традиционного кюя осмысляли проблемы современности, создавали выдающиеся произведения, которые будоражат душу даже обрусевших казахов (самой приходилось это видеть). Но почему-то, созидая послестепную культуру, этих людей – столпов традиционной культуры в современной мире – Вы хотите оставить за скобками. Почему?
Впрочем, не Вы один. Эти люди не нужны даже тем, кто сделал карьеру и имя, спекулируя на высоких словах о национальном искусстве, о национальных традициях, – и тем, кто сидит в высоких кабинетах, и тем, кто выходит на сцену в раззолоченных костюмах, и тем, кто собирает тысячную толпу посмотреть, как некто, не умеющие ни петь, ни играть, ни рассуждать, блеют что-то в надежде выиграть спонсорскую машину. Этим людям нет места даже на концертах и юбилеях в честь великих, чье искусство они хранят и продолжают. Эти люди – их осталось совсем немного – ощущают себя динозаврами в современном мире. Они не святые и не пророки, это сложные люди со сложной судьбой. Их души искорежены контрастом между двумя мирами – миром, в котором они выросли и унаследовали свое искусство, миром, где им – детям и подросткам – старики целовали руки в благодарность за то, что они захотели и смогли принять в наследство этот дар, и современным миром, где никому не нужно их высокое искусство, где искусство это, выхолощенное и опошленное, стало предметом торговли, интриг и сделок, самоутверждения, карьеры.
Кто-то сказал: «Стены религий не достигают небес, Бог один для всех». И еще: на вершину горы ведет множество путей. Человек, желающий достичь вершины, должен избрать один из них и твердо идти по нему. Нет смысла пытаться перебираться с одной тропы на другую. Но если ты уже добрался до вершины, одинаково ты можешь созерцать все склоны и все тропы, ведущие вверх. Все то же самое можно сказать и о национальных культурах. Что есть мировая культура? Высшие достижения национальных культур, по своему уровню и значению ставшие общечеловеческими. Некоторые из этих достижений признаны таковыми де-юре, некоторые являются общечеловеческими де-факто. Те, кто прошел до конца свою тропу, кто познал свою национальную культуру в ее высших проявлениях, там, на вершине, без регалий и паспортов узнают и признают друг друга, протягивают руку для братского рукопожатия. Там нет светлых и темных комнат, там никого никуда не изгоняют и ничем не попрекают.
Те немногие наши соотечественники, о которых я говорила выше, они не боятся изгнания из рая цивилизации, они уверены в том, что их искусство всегда получит достойную оценку у равных им, для них музыка Шопена и Таттимбета, Даулеткерея, Моцарта, Курмангазы, Бетховена, Брамса, Казангапа – это все их законное наследие, это единый прекрасный светлый мир, мир, в котором они истинно счастливы. Они были бы рады подарить и нам этот светлый мир, этот полет в поднебесье.
Так почему же мы отвергаем их, обрекаем себя на долю кустарника, тянущегося к небу. Спекулянты псевдотрадиционным искусством делают это потому, что они воспитаны в совке, потому что они отравлены ядом разлагающегося трупа псевдоколлективизма, они хлопочут о своем торговом месте на ярмарке тщеславия. А Вы? На самом деле нет никакой непреодолимой бетонной стены между Вами и степной культурой, кроме неких барьеров в сознании, остатков совковой психологии. Вы уже преодолели многие из них, Вам остался всего один шаг – забудьте внушенную нам и нашим предшественникам догму об отсутствии у казахов культуры, забудьте презрительные и ненавидящие взгляды «почвенных» соотечественников, забудьте блеяние и бренчание, которое Вам преподносили в качестве настоящего казахского искусства. Откройте сердце подлинному…
Я не говорю, что это легко, но ничто подлинное в мире не достается легко. Тем более, что «пустые бочки» грохочут все громче, используя все современные достижения техники и промоушена. Кстати, для традиционализма исток нашего бытия – Традиция –находится не где-то в туманном прошлом, а впереди, выше или, наоборот, где-то глубоко внутри нас. Это не прошлое, а вечное настоящее.
Утверждая существование высокого искусства, высоких пластов традиционной культуры, я не пытаюсь представить дело так, будто сама я выросла в каком-то другом, сказочном мире. Нет. Я родилась и выросла в Алматы, неказахской столице КазССР. С раннего детства полной чашей хлебнула унижений и страданий, какие могли только выпасть на долю чуткого, обладающего личным и национальным достоинством ребенка в таких обстоятельствах. Дети в коллективе умеют быть жестокими, а если взрослые втихую поощряют их… Придя в три года в детский сад, ни слова не зная по-русски, уже в средней школе я с успехом участвовала в районных и городских олимпиадах по русскому языку. А казахский – постепенно забывался, превращался в язык общения с бабушкой. У городского ребенка много занятий вне дома, так что это общение нельзя было назвать интенсивным. Родители делали все, чтобы мы не утратили национальных корней, покупали книги казахских писателей в русских переводах, билеты на концерты и т. д. В доме у нас постоянно жили родственники, а то и просто приезжие из аула, приглашенные мамой прямо на улице выпить настоящий чай по-казахски. Любым курортам она предпочитала ежегодные поездки всей семьей в родные места. Самое главное, не имея партбилета, наша мама была убежденным коммунистом и интернационалистом и одновременно всегда и везде считала своим долгом защищать достоинство нации, отдельных ее представителей. Исподволь и нам, детям, внушалась мысль о том, что если от рождения нам даны интеллектуальные способности, если мы в знании русского языка не уступаем русским, то должны использовать это для защиты справедливости и чести. Так мы и поступали. Но, взрослея, как-то все чаще замечалось: многие казахи, особенно наделенные хоть какой-то властью, напрочь лишены национального достоинства, даже в рамках должностных обязанностей не делают того, что могло бы сослужить пользу нации. Замечалось и то, что приниженные в общении с представителями других национальностей или окончательно обрусевшими казахами однокурсники из сельской местности, в ответ на твои попытки найти общий язык, стать посредником между двумя мирами, тебя же и пытаются растоптать, отомстить за свою униженность.
Что мы за народ такой? Ответ на этот вопрос книжный ребенок, разумеется, ищет в книгах. А книги были те же самые, о которых говорите и Вы, Канат. Даже в «Пути Абая», даже у самого Абая казахи были изображены такими, что невольно верилось – у нас нет истории, нет культуры, нас октябрьская революция подобрала на свалке истории, сделала людьми. И лишь поистине царственная осанка бабушки, удивительно гармонировавшая с ее небольшим ростом и натруженными огрубевшими руками, ее мудрые и лукавые глаза, ее скрытая сила духа, ощущавшаяся даже соседом-забулдыгой, терроризировавшим весь подъезд, но с подчеркнутым уважением относившимся к нашему семейству, лишь личность сформировавшейся в чисто казахской среде бабушки не давала махнуть рукой, снова и снова заставляла думать. В студенческие годы я замечала, что бабушка, напрягая глаза, пытается читать книги, особенно устную поэзию. Как-то в магазине мне попался на глаза сборник «Бес гасыр жырлайды» – «Пять веков казахской поэзии». С мыслью о бабушке я купила его. Дома прочла вступительное слово составителя М. Магауина. Это имя мне тогда ни о чем не говорило, собственных произведений писателя я не знала. Во вступительном слове меня поразило сравнение казахской поэзии с древнетюркской. Получалось, что наша поэзия уходит корнями в историю гораздо более отдаленную, чем русская или, например, английская. Поразил не только сам этот факт, но и то, что его позволено было высказать в книге.
Несмотря на мое дичайшее произношение, бабушка была в восторге, когда я начала читать ей стихи из этого сборника. Иногда она просила перечесть еще раз те или другие фрагменты, проговаривала их про себя, оживлялась, когда узнавала строки, выученные ею еще в детстве, начинала вспоминать детство: зимними вечерами дом ее отца превращался в место собрания аулчан, где исполнялась музыка, песни, отец читал изданные в Казани книги. Если раньше на наши наивные вопросы она саркастически отвечала: «Ну да, конечно, казахи ведь были невежественными», то теперь она все больше раскрывалась, рассказывала о своей жизни, о предках, вспоминала стихи, сочиненные ею или для нее давно.
На меня же чтение старинной поэзии – на девяносто процентов непонятных мне текстов – производило странное действие. Ритм захватывал, какой-то ветер прикасался к макушке и дыбил волосы, тело начинало вибрировать и наполняться неизвестной мне силой.
Уже позднее, в романе М. Магауина «Я» в эпизодах, где он рассказывает о том, как находил и впервые в пыльных архивах читал рукописи со стихами жырау, я обнаружила описание подобных ощущений, только, разумеется, многократно усиленных. (В статье «Реальность духа» в первом номере альманаха эти эпизоды анализируются специально). Буквально вчера в издательстве «Мектеп» я разговаривала с пожилой русской женщиной, ни слова не знающей по-казахски, но делающей великолепную серию книг по казахской культуре и истории «Седьмое слово», любящей свое дело. Она упомянула странную вещь: когда она готовила к переизданию в серии книгу Магауина «Кобыз сарыны» – «Кобыз и копье», он в рабочем кабинете издательства читал ей стихи жырау, и это чтение совершенно потрясло ее, что-то перевернулось в ней. И это «культурное наследие предков, которое оживить нельзя»? «Вот так и я хотел бы почитать о том, какими культурными способами мои пращуры преодолевали препоны человеческой жизни. Но таких книг я не видал…» Просмотрев когда-то два десятка не совсем удачных (в Ваших целях) книг, Вы поставили крест на культуре предков. Один из способов преодоления трудностей в жизни нашими предками зафиксирован еще в книгах средневековых путешественников (насколько его Вы сочтете культурным, я не знаю): перед смертельным боем воины слушали музыку и пение, одухотворялись, шли в бой с кличем: «Смерти нет, жизнь вечно молода».
Бабушка моя с интересом относилась к так называемой «народной» музыке. Например, как-то на экране телевизора пел, взмахивая квазисовиным опереньем на шапке, прославленный певец, народный артист. На мое недовольное бурчание она ответила: «Зря ты так. В моем детстве юные сыновья баев, которым нечего было делать, ездили по соседним аулам, задирали красивых и острых на язык девушек, состязались с ними в остроумии, в пении. То-то нам – детям и молодежи, было веселье. Этот певец в точности такой же». Уже позднее, я поняла, что на самом деле это сравнение народного артиста с ищущим развлечение байским сынком не столь уж и высокая для него оценка, профессиональные сал-сери таких байских сынков даже в свиту не брали.
В юности меня страшно раздражал музыкальный инструмент под названием кобыз: эта нелепой формы перевернутая скрипка-пиликалка. И вдруг совершенно случайно в телевизионной передаче я увидела кыл-кобыз – настоящий традиционный кобыз с открытым корпусом и струнами из конского волоса (та нелепица, которую обычно называли кобызом, оказывается, была «изобретена» в 1930-ые годы для оркестра народных инструментов), услышала в исполнении на нем древние кюи. Это был шок. Звуки кобыза еще около месяца сопровождали меня неотступно. Потом это впечатление забылось.
Но когда моя бабушка ушла, и в мою жизнь вошло настоящее горе, сердце рвалось от боли и казалось вот-вот лопнет, эти звуки вернулись: когда боль становилась нестерпимой, сердце превращалось в струны кобыза, невидимый глазу смычок извлекал из него звуки, в которых казалось было собрано все горе, весь гнев против бессмысленности мира, в котором мы всегда обречены на потерю самого дорогого. Так проходили месяцы, настал день, когда я смогла улыбаться небу и солнцу, пусть с болью, но повторить бабушкины слова, с которыми она встречала цветение деревьев: «О, пресветлый творец! Для тех, кто жив, наступила еще одна весна!»
Вернувшись к жизни, обнаружила, что почти завершенная диссертация, в которую я так много вложила сил, в которой собиралась обосновать новую парадигму политэкономии информационного общества, утратила для меня всякий интерес. Используя накопленные знания по семиотике, постструктурализму и пр., подготовила новую диссертацию «Мифоритуальные основания казахской культуры», в которой попыталась осмыслить, на доступном мне тогда уровне, казахский эпос и казахскую музыку. В этом был и долг перед памятью бабушки, и мой интерес как исследователя. Сейчас вижу множество слабых и наивных мест в работе, которая тогда была высоко оценена оппонентами и мною самой. Но работа эта стала одним из этапов пути в мир, отсутствие, недоступность которого Вы так упорно утверждаете. В этом мире много проблем, но он действительно существует.
Нужен ли Вам на самом деле этот мир, захотите ли Вы идти по этому долгому и трудному пути, не знаю. Это Ваш выбор. Допускаю, что в современной немецкой культуре Моцарт и Гете представляют, скорее, торговую марку, чем реальный центр культурного процесса. Но, пусть безмолвно, они присутствуют в ней, они фундамент и ориентир. Темная комната будет оставаться темной, проект послестепной культуры – чем-то нелегитимным и эфемерным до тех пор, пока высокое традиционное искусство предков, дух, который оно воплощает, не займет достойного места в нашем сознании. Подчеркну, высокое искусство, а не фольклор, место которому, действительно, в этнографическом музее.
И еще. 99 процентов скотов – это звучит не просто страшно. Даже более мягкое выражение «растительный образ жизни» здесь не подходит. Большинство из этих 99 процентов борется за выживание и за достойную жизнь для себя и своих детей. Да, впереди они видят лишь проблемы – ухудшающееся здоровье, инфляция, съедающая зарплату, угроза безработицы, невозможность дать детям хорошее образование, ветшающее жилье (если оно вообще есть). Но большинство чувствует, что в их жизни отсутствует нечто важное, они пытаются восполнить это отсутствие доступными средствами, хотя бы лубочным рисунком на стене. Называть их за это скотами жестоко.
С уважением, Зира Наурзбаева
2005