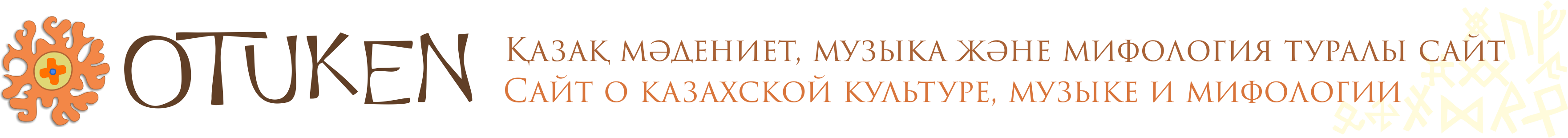В эпоху, когда устные культуры трансформируются и стираются быстрее, чем бумага успевает их зафиксировать, роман Таласбека Асемкулова “Талтүс” выступает как акт культурной архивации, свидетельство и спасение уникальной музыкальной цивилизации. С одной стороны, “Талтүс” – это яркое художественное произведение, с другой – этнографический документ, звуковая реконструкция. Книга, написанная музыкантом и кюйши, становится тем, что Михаэль Ротберг называет multidirectional memory (множественной памятью), в которой личная, коллективная и художественная память сосуществуют и дополняют друг друга [Rothberg, 2009].
В эпоху, когда устные культуры трансформируются и стираются быстрее, чем бумага успевает их зафиксировать, роман Таласбека Асемкулова “Талтүс” выступает как акт культурной архивации, свидетельство и спасение уникальной музыкальной цивилизации. С одной стороны, “Талтүс” – это яркое художественное произведение, с другой – этнографический документ, звуковая реконструкция. Книга, написанная музыкантом и кюйши, становится тем, что Михаэль Ротберг называет multidirectional memory (множественной памятью), в которой личная, коллективная и художественная память сосуществуют и дополняют друг друга [Rothberg, 2009].
Мое знакомство с Таласбеком началось в консерваторские годы. Тогда он работал в фольклорной лаборатории и был фигурой, к которой тянулись все: не потому, что он преподавал, а потому что знал больше, точнее и глубже многих. Студенты и преподаватели, профессора и просто музыканты приходили поговорить (потому что каждый разговор нес горы информации) или выучить кюй (потому что кроме него их никто не знал). Позже, когда я писала диссертацию, общение переросло в дружбу. И все, что делал Таласбек Асемкулов, – от игры на домбре до споров или философских комментариев к структуре кюя, – становилось вдохновением, триггером, небанальным знанием и приглашением к дискуссии одновременно. Таласбек был воплощением и хранителем культуры, чья жизнь и есть инкарнация этой самой исчезающей традиции. Поэтому закономерно, что второе измерение “Талтүс” – это уникальный архив живого знания. Более того, позволим себе предположение, что этот автобиографический роман проявляет изначально существовавшую готовность Т.Асемкулова к своей трагической и прекрасной жизни. В романе, переведенном на английский язык Shelley Fairweather-Vega, а на русский – Зира Наурызбай, есть строки: «Өнерді сор ғана көтереді деген. Баламның мандайының соры бес елі, тағдырыңды қоса қалсаң, осы есіңде болсын дегені ғой» [Асемкулов, 2020]. Это “несчастье в 5 пальцев толщиной” определило чувствительность и чувственность, глубину и настоящесть Таласбека во всех ипостасях, как музыканта, писателя, ученого, драматурга, мастера по изготовлению домбры.
С точки зрения гуманитарного знания роман Т.Асемкулова является многослойным, многоликим текстом. Роман ценен красивой, хирургически выверенной и достоверной историей, в первую очередь, но еще – уникальной информацией об истории, культуре и музыке казахов, которая бриллиантовой россыпью переливается на страницах романа. Поэтому произведение может рассматриваться как:
- музыкальный архив (в который встроены кюи, термины, легенды, способы игры, структура ладов);
- этнографический текст, фиксирующий исчезающие практики и мышление, жанры и традиции;
- форма эстетической памяти, в которой слово сохраняет звук;
- документальное и психологическое исследование “исторических травм первой половины ХХ века” [Наурзбаева, 2021];
- блестящее художественное произведение.
Устная традиция, при всех преимуществах и уникальных характеристиках, неединожды описанных в работах казахстанских музыковедов, имеет серьезный, естественный и трагический минус – часть музыки теряется. Таласбек приравнивает утрату даже одного кюя к гибели целой цивилизации. Такая гипербола имеет основания, так как вместе с забытым кюем традиция теряет уникальные штрихи, конкретные ладовые нормы и формообразующие структуры, «логику чувств», информацию и опыт. В романе упоминаются кюи, о существовании которых многие даже не знали: кюи Барақа (в том числе, кюй “Арман”), кюи Абылай хана (в том числе, кюй “Шайкалма”), кюи Шал Қазақ (в том числе, кюй “Қалмақ би”).
В устной памяти казахов имена Барақа и Аблая – это действующие узлы музыкально-нарративной традиции: именно на них «схлопываются» сюжеты кюя и биографические мотивы, задавая исследованиям смысловые, хронологические, и стилистические ориентиры. Абылай – ключевая фигура политической консолидации, истории казахов и сопротивления джунгарам, традиция воспринимала Абылая не только как адресата и героя кюев, но и как кюйши.
Методически важно, что роман показывает кюй как форму публичного сообщения и «суда» сразу на трех примерах: ханский вызов и ответ Байжігіта «изобразить бег Алмажая» (эпизод прямо проговаривает задачу программной имитации скачки), предсмертная реплика Барақа кюем «Арман» как артикулированное перед людьми признание несвершившегося политического замысла и уход «не на поле боя, а через обман», а также сценка с Шал Қазақ, где герой, по обычаю публичного свидетельства, сам входит в калмыцкий аул, «садится и рассказывает случившееся кюем». Все три эпизода наглядно фиксируют адресность смысла, ритуализированную обстановку исполнения и ожидание «сюжетного» прослушивания. Упомянутые в этих эпизодах кюи утеряны, но мы теперь имеем информацию о них и вероятность их реконструкции.
Уникальность Таласбека Асемкулова как хранителя традиции связана и с большим корпусом знаний о традиционной теории музыки, чему были посвящены и его собственные исследования, и работы его коллег (в том числе, фундаментальная книга А.Есенулы “Кюй — послание Всевышнего”). Идея существования целостной и системной традиционной теории казахской музыки до сих пор вызывает скептицизм у научного и музыкального сообщества, прежде всего, в силу ее неполной фиксации. Между тем, система практических знаний, передаваемых от учителя к ученику, формирует целостную концептуальную модель, в которой звук, форма и жест формируют единое смысловое пространство. Часть этих знаний содержится в романе «Талтүс» как ткань живого нарратива. Термины, описывающие технические детали, встроены в сюжет так, что они сохраняют свою первозданную связь с контекстом – будь то состязание кюйши, мастер-класс старого домбриста или воспоминание о легендарных музыкантах. Тем самым «Талтүс» фиксирует в письменной форме то, что в этнографии называют embodied knowledge[1] – знание, неотделимое от физического действия [Baily, 2001; Connerton, 1989].
Какие фрагменты романа можно отнести к корпусу знаний о традиционной теории музыки? Как минимум, обнаруживаются сведения, связанные с настройкой домбры, ладами, формообразованием, исполнительскими приемами и жанрами. Суммирование информации по традиционной теории музыки в романе формирует концептуальную идею «лада» как позиционно-тембрового поля на грифе инструмента, определяемого:
- строем,
- положением/сдвигом перне,
- артикуляцией (штрихи вроде сүретпе, «мукамал» и т. п.),
- местами напряжения формы (курмеу),
- жанром.
У Таласбека Асемкулова формируется и моторная грамматика кюя, еще ярче проявляющаяся в сложном приеме-легенде мұқамал, который транспонирует кобызовую технику в домбровую. Его сущность – три буын («три слога», микро-пульса) внутри одного движения правой руки: «Домбырада бір қағыс – бір буын… Ал Мүкамал бір қағыстан үш буын шығарған» [Асемкулов, 2020]. Скепсис героя («Мүмкін емес…») как раз показывает, насколько этот штрих ломает привычную домбровую речь.
Все рассмотренные термины (в романе их больше, мы взяли лишь некоторые) образуют систему, которая не может быть описана в терминах европейской музыки без потери смысла. Которой Таласбек посвятил жизнь. Для исследователей это редкий случай, когда художественный текст становится первоисточником по теории музыки, дополняя лакуны этнографических и музыкальных описаний.
Релевантным является и обозначенное во введении утверждение, что роман «Талтүс» выступает как альтернативный музыкальный архив, хранящий песни и кюи, жанры и обряды, имена и связи, причем – в контексте. С упомянутыми в романе произведениями и именами можно работать как с базой данных или картой памяти, читать художественный текст как набор проверяемых метаданных и одновременно как комментарий к звучанию. Предлагаемые в данном случае атрибуции и датировки – предельно реалистичные гипотезы, которые в последующем могут быть подтверждены внешними источниками (полевые записи, музейные инструменты, каталоги, фоноколлекции).
Корпус из двенадцати кюев, который дает роман, складывается в отчетливую модель аркинской традиции с центральной осью Тәттімбета и полюсами памяти, генеалогически восстанавливаемой – Байжігіт, Абылай хан, Сұлтан Барақ, Асан Қайғы, Шал Қазақ. Каждое имя сопровождается “микроинструкциями” к слуху и рукам – через буын и күрмеу, через образы атаки и тембра и тд. Там, где звук утрачен, проза удерживает как это должно было звучать, а там, где звук жив, – задает, как его слышать правильно.
Ядром нашего альтернативного музыкального архива в романе являются сами музыканты – выдающиеся кюйши, салы, сері. Если собрать всех музыкантов, прозвучавших в романе, складывается богатейшая палитра, антропонимика традиции, в которой каждое имя стоит на своем месте, отражая кто кому учитель, кто хранит конкретный штрих, кто откуда «подсветил» исполнительский стиль.
Большой интригой и вызовом для ученых становятся неизученные или неизвестные имена. Таласбек Асемкулов был не только редчайшим знатоком культуры, но и мастером шифрования, непрямой подачи материала, что дает все основания предполагать неслучайность присутствия этих имен в романе. Речь идет об Иләпі, его сыне Өксікбай, Саруаре, через которого проступают ценные сведения о быте и репертуаре, и о Жұмане как рекомендуемом учителе.
Весь этот звездный калейдоскоп плотно переплетен десятками связей, что действительно соответствовало реальной традиции. Почти все упомянутые в списке музыканты – либо сами воины, либо люди, находившиеся в прямой связи с воинской элитой: Абылай хан, султан Барақ, Сары Нияз, Шал Қазақ и тд. Многие кюйши, даже если они не командовали войском, принадлежали к окружению батыров, разделяли их образ жизни и систему ценностей. В этом контексте кюй выступает не просто как художественное высказывание, но как форма сублимации подвига, утраты и пути. Виртуозность исполнения заменяет блеск оружия, ритмическая атака – стремительность конного натиска, а медленные лирические фрагменты становятся звуковым эквивалентом тоски по павшим или изгнания. Эта логика поддерживает и подтверждает теорию самого Таласбека Асемкулова о казахской музыке как искусстве воинской касты: искусстве, в котором техника и образность рождены жизнью степного рыцарства, а каждая пьеса – это закодированная хроника личной или родовой судьбы.
Уникальный, системный и огромный объем информации, содержащейся в «Талтүс», позволяет обозначить новую перспективу – развитие в современной исполнительской практике Казахстана historically informed performance (HIP). Исторически информированное исполнительство (HIP) – глобальный тренд в мировой музыкальной культуре, исследовательская исполнительская методология, при которой все ключевые решения (темп, артикуляция, штрих, строи, темперированность, состав, акустика, манера звукоизвлечения) обосновываются источниками (трактаты, устные свидетельства, ранние записи, инструментология, иконография, топонимика) и проверяются в реальной практике. Первоначально ассоциируемое с барочной музыкой, исторически информированное исполнительство позволило вернуть утраченные параметры (связанные не только с элементами музыкального языка, но и с самими инструментами[2]) и максимально приблизиться к аутентичному звучанию. Для Казахстана HIP даст новые возможности, тем более, что методологическая основа уже задана «Талтүс»: классы источников (устные версии, ранние записи, «длинные» легенды, именные линии ученичества), материальная база (мензура, перне, строи, типы домбр), исполнительская эвристика (штрихи, аффекты, «узлы» формы), перформативная проверка (сцена как итог экспертизы). Возвращение в учебный процесс embodied knowledge дает устойчивость традиции, отрицая консервацию «единственно верного текста». Иначе говоря, HIP превращает богатство, описанное в романе, из текста – в воспроизводимую практику, где знание живет столько, сколько звучит.
Можно утверждать, что казахская домбровая традиция располагает всем, чтобы выстроить собственную версию исторически информированного исполнительства (HIP). Причем, не заимствовать «европейский» формат, а создать свой собственный. Именно поэтому этическая интонация «Талтүс», его научная значимость в принятии ответственности: роман предъявляет утраты, но одновременно открывает инструменты их преодоления, от реестров имен и кюев до «внутренней грамматики» жеста, строев и перне, которые можно проверять и возвращать в практику, роман содержит встроенный механизм воспроизводимой традиции.
[1] Embodied knowledge – это форма знания, которая существует в прямой взаимосвязи с телесным опытом и закреплена в жестах, движениях, позах, ритмах и моторных навыках, формируемых в процессе практики. Оно не может быть полностью передано через абстрактное описание или текст, поскольку является неотделимой частью физического действия и сенсорного восприятия. В этномузыкологии это понятие использует, например, Джон Бейли и Пол Коннертон. Бейли подчеркивает важность практики в качестве способа углубленного понимания традиционной музыки. Он пишет, что опыт исполнения становится формой embodied knowledge, к которому невозможно прийти исключительно через словесное описание [Baily, 2001]. Коннертон же вводит понятие embodied memory как одну из двух форм коллективной памяти, наряду с письменной. Он объясняет, что «ritual performances» и «bodily practices» являются носителями памяти, закрепленной в теле [Connerton, 1989].
[2] в том числе, барочные струны и смычки.
Джуманиязова Р. — кандидат искусствоведения.
С полным текстом исследования, составляющим более 20 страниц, можно ознакомиться в журнале «JETE — JОURNAL OF PHILOSOPHY, RELIGIOUS AND CULTURAL STUDIES»