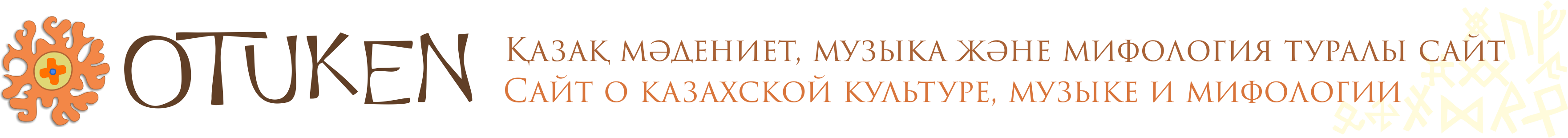(По трудам С.Кондыбая «Введение в казахскую мифологию» и «Казахская мифология. Краткий словарь»)
(По трудам С.Кондыбая «Введение в казахскую мифологию» и «Казахская мифология. Краткий словарь»)
Зира Наурзбаева
Сформулированная в заголовке проблема имеет не только научно-теоретическое, но и мировоззренческое, более того, политическое значение. Научная сторона вопроса наилучшим образом артикулирована в статье доктора филос.наук, проф. Б.Г.Нуржанова «Город и степь».1 Он показывает, что даже на этимологическом уровне понятие культуры связано с оседлым образом жизни и с земледелием – культивированием растений. Остальные значения этого слова являются позднейшими смыслами. Но коль скоро к кочевникам не применимо изначальное значение понятия «культуры», возникает вопрос, насколько мы вообще имеем право использовать это понятие по отношению к кочевому образу жизни? Казахское «мәдениет» происходит от арабского «медина» – «город», то же самое относится и к латинскому «цивилизация».
Время от времени эта сугубо теоретическая проблема принимает политическую окраску, становится основой для выражения шовинистических настроений «арийский» «ученых», таких, как братья Шукуровы, которые настойчиво продвигают в научной, политической и финансовой среде западного мира идею о том, что тюрки, кочевники не вполне выделились из природы, что они должны рассматриваться как часть природного процесса, а не общечеловеческого, культурного. То, что такая проповедь имеет успех, мы видим на примере выступлений некоторых российских «властителей дум». Понятно, что такие ученые, с одной стороны, выплескивают затаенный комплекс неполноценности, с другой – выполняют определенный политический заказ. Тем не менее казахская (тюркская) культурология должна создать теоретическую базу для достойной отповеди «арийцам».
Проблема заимствованного категориального аппарата нашей гуманитарной науки
Однако, проблема имеет гораздо более важное значение для нашего самопознания, самоидентификации. Для казахской гуманитарной науки, сформированной в колониальный период, до сих пор неразрешенной проблемой остается заимствованный, некритически воспринятый категориальный аппарат. Категориальный аппарат представляет матрицу, рамку для научного мышления. Это своего рода философские, методологические основания конкретной науки, ее аксиоматика. Используемые в большинстве гуманитарных наук – философии, лингвистике, филологии, истории, музыковедении и т.д. – базовые категории были сформулированы на качественно другом материале, призваны были описать сущности совершенно другого генезиса.
В качестве примера можно упомянуть не только категории культуры, цивилизации: в свое время для историков большой проблемой являлась необходимость уложить кочевничество в схему пяти общественно-экономических формаций, языковеды вынуждены были работать с понятийным аппаратом, выработанным на материале русского языка, строй которого совершенно отличается от казахского. В своей кандидатской диссертации музыковед Р.Жуманиязова обоснованно поставила проблему применимости категориального аппарата, выработанного в европейской науке, для исследования казахской музыки.
Доктор истор.наук Н.Масанов указывает, что понятие «государство» в его классическом значении не применимо к кочевникам, потому что основным объектом присвоения для государства всегда является территория. Номадизм, рациональный выпас скота и государственные границы, административно-территориальное деление несовместимы, поэтому у казахов были институты власти, но не государство в общепринятом плане. По-своему эту разницу чувствуют этноцентричные ученые и публицисты, любящие подчеркивать, что государство у кочевников не имело аппарата насилия (полиции, тюрем и пр.), без которого невозможно классическое государство у оседлых народов.
Такие нестыковки можно перечислять сколь угодно долго, ситуация только усугубилась, когда в независимом Казахстане «срочно» были созданы прикладные науки западного образца – политология, социология и пр., методы сбора информации которых не учитывают особенности нашего менталитета точно так же, как категориальный аппарат не учитывает природу явлений, изучаемых ими в наших условиях. В результате мы имеем достаточно химеричный продукт, малоэффективный в употреблении. В традиционном обществе было представление о том, что, зная подлинное имя существа или вещи, можно им управлять. Иногда наша наука напоминает мага-неудачника из фэнтези У.Ле Гуин, который пытается заклинать, называя имена, уже утратившие свое значение, потерявшие силу.
Речь сейчас не идет о полной замене заимствованных категорий, отказе от таких устоявшихся понятий, как «кочевая культура», это и не нужно, и невозможно. Так или иначе наши ученые научились работать с этим аппаратом, делая «в уме» поправки на особенности предмета исследования. В каждом конкретном случае необходим взвешенный подход, учитывающий ряд факторов, первым из которых является, наверное, то, насколько велика сумма этих поправок «в уме», не обессмысливает ли эта сумма применение категории вообще.
Специфика кочевой культуры и ее отражение в базовом мифо-лингвистическом материале
В свое время в диссертационном исследовании мне уже приходилось отмечать, что неприятие европоцентристски настроенными учеными кочевой культуры связано не просто с психологией или идеологией. Причина гораздо глубже, она таится у самих оснований культуры, точнее, разницы оснований оседлой и кочевой культур. В общем плане культура представляет собой установление порядка, гармонизацию хаоса через ритуал. В этом контексте вычленение Ж.Дюмезилем двух противоположных ритуальных стратегий – шаманской и жреческой, каждая из которых занимает приоритетное положение в кочевой и оседлой культурах, позволяет приблизительно представить глубину различия.2 С.Кондыбай в ряде работ сформулировал основные положения о природе кочевой культуры, о том, как ее специфика отразилась в мифо-лингвистическом материале тюркских языков. Отталкиваясь от этих положений, можно попытаться ответить на вопрос о понятии, которое и этимологически, и сущностно могло бы отразить специфику кочевой культуры. К сожалению, в четырехтомнике «Аргыказак мифологиясы» к этим проблемам он не вернулся, возможно, предполагая специально остановиться на них в следующих томах (в своих письмах он говорил о шести-семи, возможно, восьми томах).
Итак, мысли Серикбола, на которые следует обратить особенное внимание в связи с поднимаемой проблемой:
- «R-принцип» и праформа «Ар» в пратюркском языке;
- Тюркская мифология коня, отождествление коня и космоса, роль коня в антропогенезе, само слово «ат» («конь») омоним слова «ат» (имя), для мифологии «атау» (называние) связано с обретением сущности, смысла, это неслучайное совпадение подчеркивается масштабным присутствием лексем, связанных с «конской тематикой», в антропонимах;
- Лексемы «ер» ( «муж, герой» и «седло») и «ерттеу» (седлание, приручение коня), связанные этимологически и по смыслу с первыми двумя пунктами;
- Образы Майкы-бия и Алаша-хана;
- Мифология знамени – «ту»;
- Мифология боевого клича, девиза – «урана»;
- Тамги родов и племен, клеймение скота.
Элементы этого предварительного списка так или иначе связаны с самой сутью конно-кочевой, скотоводческой культуры, а также с кшатрийской, воинской природой тюрко-монгольской культуры.
Сформулированный С.Кондыбаем R-принцип опирается на целый круг значимых понятий (а также служебных частиц) в казахском языке, среди которых, в частности, «ырық», «ырым», «ар», «ер», «ерттеу», «төр», «терек», «жыр»\»ыр», «жар», «жарату», «ор», «өр», «уран», «урей», «ыр», «рет», «ерiк», «ерке», «ару» и т.д.. «Ырық», например, означает, предустановление, предопределенность, предустановленный порядок, судьбу, волю и т.д., «рет» – порядок. В современном языке «төр» – почетное место в юрте, в древнетюркском оно передает такие понятия как «закон», «установление», «власть», «путь», «Мировое дерево», «Млечный путь». «Жарату» – созидать, творить, «жаратушы» – творец. «Жыр\ыр» –песня, сказание, воспевающее подвиг героя и\или имеющее космогоническое значение.
Соединение праформы Ыр* (р) (значение, суть, сущность) и лексемы «ет» (т, ат, де, деу, өт, ұт со значением «делать, двигаться, оживать, говорить») дает «Ыр ету» («делать Ыр», «произносить ыр, рычать, что, возможно, связано с тотемизмом волка\собаки) и означает «говорить\делать космический изначальный закон», «древний порядок, закон, деяние». Отсюда «реттеу\ыреттеу» – упорядочивание, по звучанию и смыслу абсолютно соответствующее индоевропейскому «рита» («рта», отсюда «ритуал»), авестийскому «арта». Современное английское «арт» (искусство, ремесло), а также русское «ряд», «порядок» имеют тот же корень. С «ыр ету», «арт\ерт» или, возможно, «ерт тек» (происхождение правил, закона) связано казахское «ертегi» (сказка), первоначально, видимо, означавшее устный свод знаний мировоззренческого характера, миф в подлинном смысле этого слова.
«Ар» в современном казахском языке означает высокий уровень морально-этических качеств, честь, совесть, с ним связан целый ряд позитивно окрашенных понятий, таких, как «арлы», «арлан», «ардак», «арыс». В прошлом оно несомненно имело мифическую окраску, в частности отразившуюся в пословице «Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы».
Ирано-авестийское Арштат – олицетворение чести и правдивой прямоты в мыслях, словах и делах, основное достоинство свободного человека, в особенности государя – возможно имеет в основе прототюркские слова Аr* и St* (казах. ұстау – держать, iстеу – делать).
Праформа Ар* имела также значение некоей черты, границы, разделяющей отрезки пространства или времени, а также некоей индивидуализирующей или обобщающей сути. Ар* может означать некую реальность, весь мир, все время, соединяясь с праформой В* она порождает пару дуальных понятий «ар» и «бар» (бер, бергi), означающих соответственно нечто запредельное, трансцендентное и принадлежащее этому миру, живому миру. Вместе с праформой Тi* (жизнь) оно порожает лексический ряд со значением «живой», «стоящий», «принадлежащий этому миру» (тiрi; тұру), а также этноним «түрiк» –«тюрок».
Сингармонический вариант этой праформы «ер» стал означать сначала, вероятно, представителей воинского сословия, всадников, а затем просто мужчин, а также превратился в обозначение множественного числа, формант, образующий этнонимы, и в служебную частицу.
И, наконец, Ар* означает наилучшим образом сделанную вещь, идеальное действие. Для кочевника, безусловно, такой оценки прежде всего достойно седло – ер. С.Кондыбай рассматривает конкретное деяние, связанное с приручением, седланием коня («ер ету», «ерттеу»), и его дополнительное, мифокультурное значение, определяемое значимостью коня для кочевников. Неоседланная неприрученная дикая лошадь символизирует дикость, отсутствие Ар\Ер, хаос. Приручение коня, изобретение седла, седлание коня – исчезновение хаоса, принятие неких правил, законов, появление культуры, присутствие Ар\Ер. «Ер ету, ерттеу» – создание цивилизации, установление порядка.
Разбирая мифологическое значение знамени (древнетюркское «урунг», байрақ (от «бай ырық» – древняя, изначальная, главная судьба, воля, предопределенность)), ту (от праформы Т* – жизнь, рождение), связанное с представлением о некоем духе, пребывающем в нем, С.Кондыбай приводит распространенную, отличающуюся иногда в деталях формулу в казахском фольклоре:
Алаш Алаш болғалы,
Алаша атқа мiнгелi,
Ала шұбар ту байлап,
Алашқа ұран бергелi…
Или:
Алаш Алаш болғанда,
Таңбасыз тай, енсiз қой болғанда…
(Подстрочный перевод: «С тех пор, как Алаш стал Алашем, с тех пор, когда сели на пестрого коня, с тех пор, когда привязывали пестрый флаг, с тех пор, когда дали уран – девиз, боевой клич народу Алаш» или «Когда Алаш был Алашем, когда кони и овцы были без метки (без знака, тавра)»). Эту формулу Серикбол называет ярким примером незаметной мифологии: были времена, когда лошади были без тамги, овцы – без метки, т.е. когда скот был диким, неприрученным, когда культуры не существовало, это доисторическое время. Алаш-солнце и Алаша-царь сел на пегого (боевого) коня (сесть на коня у кочевников – возникновение культуры, порядка и занятие определенного социального положения, т.е. возникновение социальной структуры, цивилизации), поднял пестрый, огненно-красный флаг (поднятие флага – рождение человеческого, социального строя, государственности), дал народу уран (девиз, имя – это рождение народа, начало этногенеза) и, конечно, поставил коням тавро, овцам – метки, это означает не только приручение скота, но и появление собственности, внутреннее социально-хозяйственное разделение. Все это – признаки кочевой цивилизации, поэтому Алаш\Алаша считается цивилизатором, установителем социально-политических норм, а огненно-красный или пестрый цвет знамени – национальным символом казахов, тюрков вообще.
В немногих строках Серикбол дал блестящую формулировку сути культурогенеза в понимании кочевников, отражающую и особенности их хозяйственного уклада, и культ коня, и кшатрийскую (воинскую) природу кочевой цивилизации. Остается лишь напомнить, что называние («атау») в мифологии есть обретение существом или предметом своей сути. Пестро-красный («ала») цвет символизирует средний мир, космос, регуляция которого относится к функции кшатрийской касты (по информации Т.Асемкулова, кюи Западного Казахстана, называемые сейчас «токпе», традиционно именовались кюями пестро-красного знамени («ала байрак»), что отсылает не только к воинским традициям Младшего жуза, но и в связи с космогонической ролью музыки в тюркской мифологии и дополнительными значениями слова «кюй» («состояние» и «гореть, обжигаться») может в мифологическом плане означать рождение среднего «пестрого» мира из этой музыки).
Боевой клич, девиз «уран», как показал Серикбол, изначально представлялся в виде духа-покровителя в образе змея\дракона. Смысловое поле этого слова включает также значения окружать, огораживать («ор-орау»)3, а также кружиться (центростремительное движение по кругу, вращение характерно для среднего уровня космоса и для воинской касты). Тавро, метка («таңба») в более широком плане означает развитие знаковой системы визуального типа, письменности.
Мифология – это система метафор, построенная по признаку голографии, поэтому смысловое поле, связанное с представлениями о культурогенезе, можно разрабатывать во многих других направлениях. Но, говоря о базовых мифо-лингвистических значениях, связанных с культурогенезом у тюрков, нельзя не упомянуть Майкы-бия. Серикбол показал сложную мифологическую нагрузку этого образа, связанного с такими понятиями, как Первочеловек, Великая Праматерь (Умай), Хозяйка. Некоторые детали этого образа отсылают к мифологии дракона-змеи, лошади-солнца и т.д. В контексте разговора особенное значение имеет фраза «Түгел сөздiң түбi бiр, түп атасы – Майқы би» (букв.: «У всех слов – единый корень, этот корень (изначальный предок) – Майкы бий»). Кроме того, сохранилось представление о том, что Майкы бий раздавал казахским жузам и родам знаки (тамга) и боевые девизы (уран), это отголосок мифического представления об устроителе социума, цивилизации. В фольклоре хан Алаш поклонился Майкы бию, признал его своим пиром –духовным учителем, т.е. можно говорить здесь и о разделении функции жрецов (бий – судья, владыка слов, духовная власть) и царско-воинского сословия (солнечный герой хан Алаш, светская власть).
Еще одна красивая деталь. В казахском языке представителя семьи, династии, рода обычно метафорически называют «туяк» – «копыто». Как показал Серикбол, в одной этой метафоре кроется метафизика кочевников. В первом томе «Мифологии предказахов» он говорит о непроявленном источнике бытия, его центре и проявленном, видимом мире. Взаимоотношения непроявленного и проявленного могут символизироваться кругом с точкой в центре или звездой, при этом конкретное количество лучей всегда имеет скрытое значение. Метафора коня и космоса общеизвестна. Растянутая шкура коня (жертвоприношение коня) представляет собой шести- или четырехлучевую звезду, где копыта – окончания лучей, идущих из центра, пересечение этих лучей с кругом, символизирующим внешний, проявленный мир. Также и живая лошадь прикасается к земле (материальному миру) прежде всего своими копытами. Таким образом, копыто в символическом плане означает точку соприкосновения непроявленного центра с проявленным миром, присутствие Вечного во временном, абсолютного в земном.
Кочевое ерттеу и оседлая культура
В статье «Закон чести», опубликованном во втором номере альманаха «Рух-Мирас», Серикбол развивает символизм знака «абак» как непроявленного центра и проявленной периферии на материале многочисленных ритуалов кружения в казахской культуре. Он расшифровывает эти ритуалы как подражание некоему вневременному эталону, источнику, Принципу. В индуизме круговое движение рассматривается как типичное для воинской касты кшатриев: оно возникает как результат наложения центробежного движения, характерного для плотного мира, и центростремительного движения кшатрийского духа, устремленного к Высшему принципу.
Если учесть, что круговое движение представлено не только в образе годового цикла кочевья, не только в целом ряде ритуалов, анализируемых Серикболом, но и осмысливается в традиционной культуре как символ кочевья вообще (в мире все находится в движении – солнце, луна, звезды, воды, животные, птицы и люди, лишь мертвые остаются на одном месте), а оседлость рассматривается как вынужденное состояние, несчастье, становится ясным, что не только кочевничество выглядит странным для оседлых культур, оседлость как культурный тип, как добровольный выбор предстает странным и даже «подозрительным» в глазах кочевника. Кочевники рассматривали города как средоточье зла и разврата не просто исходя из фактов, но и опираясь на метафизическую интуицию. Фиксированность, неподвижность характерны для трансцендентного, для Высшего принципа. Живое находится в круговом движении вокруг этого фиксированного центра, недвижимого двигателя, подобно тому, как небо вращается вокруг Полярной звезды. Мертвые получают право на неподвижность потому, что они уже принадлежат тому, запредельному миру. Характерно, что сакральная архитектура (курганы, мазары, кулпытасы, койтасы и пр.) и сакральная скульптура (балбалы) развиваются у кочевников именно как стремление зафиксировать место вечного успокоения. Жилище живых – юрта, являясь символом сакрализованного космоса, перемещаема, что маркирует ее принадлежность миру живых. Город осознанно или неосознанно своей фиксированностью подражает недвижимому трансцендентному центру, оси мира, стремится подменить, взять на себя его роль. И эта подмена не может не казаться подозрительной, дьявольской по своему источнику. Сомнительность ситуации осознается и самими горожанами. Отсюда – теологические теории о Небесном Иерусалиме и его земном образе, о небесном Риме и т.д. Но постепенно эти сомнения забываются, и реальный, земной Рим становится «вечным», «первым» (затем, разумеется, появляются «второй», «третий»), центром мира.
Здесь нельзя не провести следующую параллель: по мнению Серикбола, самоназвание иранцев «арьи» является результатом некорректного заимствования, исторического недоразумения. Пратюрки лексему «ар» относили к миру иному, ариями называли его обитателей – мертвых, предков, а также иногда свое высшее сословие, носителей «ар» качеств этом мире. Иранцы заимствуют это понятие и присваивают его себе. Точно так же, по мнению Серикбола, иранцы по ошибке превращают пратюркский образ и название идеального мира, мира предков Канг в название квазиреального города, которым владеют враждебные туранцы и который представляет своеобразный рай для самих иранцев.
Земледельческая культура и кочевое «ерттеу» — седлание, теория которого может быть выстроена на основе работ Серикбола, имеют ряд общих моментов, основанных на общности человеческого происхождения, отразившегося в некоем общем круге мифо-лингвистических элементов, и в то же время отличаются друг от друга так же, как отличаются два этих образа жизни.
Б.Г.Нуржанов в «Городе и степи» демонстрирует следы «кочевого происхождения» понятий «фюзис» и «натура», означающих в греческом и латыни не «внешний, окружающий человека мир», а «то, что рождено, порождено», но не человеком, а «само собой». В ряд этих понятий можно было бы поставить казахское «зат», в фольклорных текстах употребляющееся в значении «происхождение», «суть», «природа»: «адамзат» — «существо человеческой природы, потомок Адама», «бөрізат» — «потомок небесного волка, обладающий его природой».
Но, разумеется, с ходом времени некогда общие понятия изменяют свое значение, приобретают противоположные смыслы. Если для оседлой культуры природа становится чем-то диким, неосвоенным, подлежащим освоению – огораживанию, выкорчевыванию и пр., то для кочевников (выводящих новые породы скота путем длительной селекции естественных изменений, добивающихся оптимального травостоя перемещением скота) она сохраняет статус имеющей собственные, независимые от человека, равные с ним права и происхождение. Поэтому еще в начале ХХ века в казахской степи бродили миллионные стада сайгаков – естественных соперников домашнего скота за питание. Для тенгрианства травинка, сайгачонок, муравей и человек в абсолютном смысле, перед лицом Творца равны, а природа, мир в целом божественен и совершенен (это отношение к природе стало источником многих прекрасных легенд и кюев кочевников о животных, и одновременно источником высокомерно-презрительного отношения «культурных» народов к кочевникам как к части природы).
Точно так же все народы созданы единым Творцом, относительно каждого из них создатель имеет некий план, поэтому ни один народ не имеет права уничтожить («выкорчевать») другой. Не выкорчевывание диких растений и посадка культурных, а полудикий выпас, охрана, регуляция передвижений и численности, клеймение (освоение в смысле кодирования) – эта специфика кочевого скотоводства получает отражение и в том, как кочевники — кшатрии Евразии — рассматривают свои функции «выпасания народов».4 Идея системного геноцида («Карфаген должен быть уничтожен») появляется именно в оседлой культуре.
Кстати, проф. Б.Г.Нуржанов отмечает общность этимологии греческих «номад» (кочевник) и «номос» (традиция, обычай, закон). Возможно, это отождествление кочевников и традиций-обычаев связано не только с тем значением, которые традиции имели в кочевой культуре, но и с тем, что кочевники-кшатрии олицетворяли силу традиции для всех народов. Т.Досанов озвучивает «түрік» (тюрок) как «төрік», от древнетюркского «төр» – путь, обычай, традиция, власть, Млечный путь, Мировое дерево.
Интересно было бы рассмотреть сочетание жреческих, земледельческих и кочевых символов в мифе Платона о познании-вспоминании, а также взаимосвязь жреческого «культа» и земледельческой «культуры»…
Одной из функций кочевников, как доказывается в «Кет-Буге», было регулирование денежного обращения. В период доминирования кочевников этой сфере деньги не только сохраняли свой изначальный сакральный символизм, но и имели возможность свободно обращаться, совершать круговорот. По мере того, как эта сфера переходит в руки представителей оседлой культуры, появляется тенденция «освоить» (присвоить), «огородить», накопить их, что искажает естественный круговорот.
Б.Г.Нуржанов отмечает: «Если термин «экономия» уместен в отношении кочевого образа жизни и хозяйства, то это экономия дара (дарения и получения в дар), а не эквивалентного обмена, экономия расточительства, щедрости и избытка, а не накопления, бережливости и жадности». Эту же мысль на конкретном этнографическом материале развивает Н.Масанов, когда пишет о социально-сегментирующей функции. Как представляется, экономика дарения связана не только со спецификой кочевого скотоводства, но и с кшатрийским характером кочевой культуры.5
же мысль на конкретном этнографическом материале развивает Н.Масанов, когда пишет о социально-сегментирующей функции. Как представляется, экономика дарения связана не только со спецификой кочевого скотоводства, но и с кшатрийским характером кочевой культуры.5
Завершая доклад, хотелось бы сказать, что я далека от мысли об окончательности и бесспорности выдвинутых здесь гипотез. Моей целью было показать эвристические возможности текстов Серикбола Кондыбая, в особенности, если их анализ сопрягается с современными культурологическими исследованиями. Лично для меня вопрос о понятии, которое могло бы адекватно отразить специфику кочевой культуры, оставался актуальным на протяжении более пятнадцати лет, с тех пор как я имела возможность участвовать в студенческом кружке по постмодернизму, который вел проф. Б.Г.Нуржанов. И мне кажется замечательным то, что ответ на этот вопрос прозвучал в работах Серикбола, который не был знаком с исследованиями современных номадологов.
2004