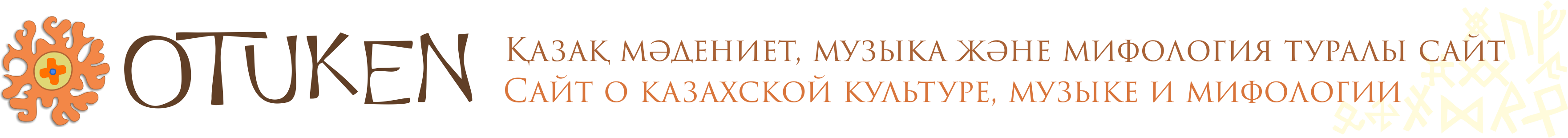«Насупленные сурово брови» – не просто штамп голливудских фильмов об СССР. Эту простую истину я осознала не сама. Мне помогли. Помогли, раздраженно задав вопрос: «Почему Ваш ребенок все время улыбается?»
К сожалению, вопрос был задан не мне. Мой сынишка уже к 1,5-2 годам осознал, что скверик на берегу Есентай, где кучкуются мамашки и проходят «первичную социализацию» додетсадовского возраста малыши, не то место, где востребована его беззаботно-счастливая улыбка, а поле битвы за выживание. Первые его слова на великом и могучем, разумеется, были «дай» и «мое».
Вопрос был задан моей приятельнице, которая обычно гуляет вдвоем с ребенком, не заботясь о его «социализации», а тут забрела в наш скверик пообщаться со мной. Этот вопрос ошеломил и заставил вглядеться в ставшие привычными лица мамашек и деток. Заставил задуматься. Сюда, в скверик, малышей обычно приводят нянечки (отдельный разговор), по воскресеньям иногда папаши, но наш разговор о мамашах. В среднем это достаточно обеспеченные молодые женщины – своя квартира, муж с неплохой зарплатой или малым бизнесом, неплохая машина (или две), коляска от 20 тыс. тенге и выше. Дети одеты модно и чистенько (3-4 курточки на один сезон – норма, потому что стираются они каждый день). Женщины обожают своих малышей, часами обсуждают рецепты особенно вкусных блюд, полезных для растущего организма, пользуются рецептами по развитию ребенка из журналов для родителей (с года – специальные пальчиковые краски, пластилин и пр.), с полутора лет водят 2-3 раза в неделю на час-два своих чад в детский центр, где с ними занимаются по методике Монтессори (не знаю, что такое, но звучит красиво) за сто долларов в месяц.
Но при всем при этом, совсем непохоже, что жизнь (весна, солнце) в радость этим женщинам. Более половины из них почти всегда нахмурены. Из пяти – одна умеет улыбаться. На детских лицах радости тоже не заметно. Некоторые при молчаливой поддержки насупленных матерей постоянно проявляют немотивированную агрессию. О том, что учить ребенка делиться с другими стало неактуально, потому что «нельзя ломать личность ребенка», а жадность теперь называется чувством собственности (чаще всего по принципу «моё – моё и твоё – моё»), опять же отдельный разговор.
Я все пытаюсь понять: почему они такие хмурые, даже если жизнь в целом обеспеченна, дети здоровы и демонстрируют врожденное «чувство собственности» и агрессивное умение «выживать в социуме»? Почему в нашем обществе «смех без причины – признак дурачины», и никакой Норбеков (вкупе с Правдиной) нам не указ? Эта наша характерная черта становится особенно заметной, когда постсовок оказывается в иностранном окружении, например, на курорте. Синеглазая блондинка в лифте, если она поздоровалась с Вами и улыбнулась чужому ребенку, обязательно окажется, турчанкой или немкой, или, может быть, фольксдойче, покинувшей пределы 1/6 части суши 10-15 лет назад. Вежливый и контактный ребенок на детской площадке, который не стремится разломать качели или домик, это тоже «не наш», в крайнем случае, отпрыск «гнилой интеллигенции», который за весь сезон так и не смог найти общий язык с соотечественниками.
Культурный шок, который испытываешь в аэропорту при возвращении оттуда, способен ввергнуть в депрессию. Пожилая казашка на паспортном контроле с таким выражением изучает меня и моих загоревших до черноты типичных казашат, прибывших рейсом из Антальи, как будто мы не просто нарушители границы, а отравители ее обожаемого отца, будто между нами века вендетты.
Все эти «мыслеощущения» нахлынули с новой силой, когда я взяла в руки первый номер журнала «Книголюб» за 2008 года (есть и электронный вариант). Непроизвольно, номер оказался посвящен теме памяти, человеческой памяти вообще, и памяти о детстве, в частности.
Радость узнавания вызвали эпизоды повести Бахыта Кенжеева «Отрывки из книги счастья»: в памяти поэта так ярки оказались уже забытые нами «сокровища» нашего общего советского детства – разноцветные крышечки от молочных бутылок с широким горлом из алюминиевой фольги, игрушечные комодики из спичечных коробков, индийский чай со слоном и чай № 36, сок в розлив в перевернутых конусах. Живущий в Америке Кенжеев, оказалось, знает, откуда брались разноцветные проволочки, из которых мы повально плели браслетики и кольца. Конечно, детские впечатления центровского москвича в чем-то отличаются от моих, алма-атинских микровских. У него – змеистые, (наверное, культурные) очереди за «небывалым товаром» вроде «масла медового и сырного», в моем – многочасовые давки за двумя килограммами завернутых в целлофан костей, называвшихся «суповый набор». Но у нас были и свои радости: «китаец» на телеге, у которого мы обменивали пустые бутылки на самопальные петушки и тянучки и т.п.
О неслучившемся детстве – рассказ «Зимнее утро» петербуржанки Заринэ Джандосовой, действие которого происходит в советском абортарии. Правда, героиня рассказа там оказалась по блату, а потому из всех прелестей увидела лишь казенные халат и ночнушку, а также мужские тапки 41-го размера. И, вообще, рассказ о другом. Упомянула же я его в контексте статьи лишь потому, что напоминание о советских роддомах, порядок и персонал которых будто бы вышел из ГУЛага, хороший переход от радужных детских воспоминаний Кенжеева к центральному, на мой взгляд, материалу номера – мемуарам Владислава Скитневского «Сага о деформированном детстве».
Автор, пожилой человек, наш бывший соотечественник, набрался мужества зафиксировать на бумаге образ советского детства, о котором не принято было говорить в советское время, да и в послеперестроечное так не говорили. Честно скажу, не поклонница Солженицына и другую литературу о сталинских лагерях не очень воспринимаю. Может, это защитная функция организма, не знаю. Но здесь особая статья. Разговор о детях, которые с младенчества находились в спецдетдоме для детей врагов народа (некоторые были «доношены» матерями на зоне).
Автор без надрыва, спокойно и человечно рассказывает такие вещи, которые объясняют превращение миловидного малыша с умными глазами в звереныша. Контраст между фотографией 1940 года (4 годика, уже спецдетдом, но деформация личности еще, наверное, не так заметна) и групповой фотографией 1942 года (6 лет) ужасает. На этой групповой фотографии воспитательницы вроде бы улыбаются. Они вполне узнаваемы, очень напоминают моих детсадовских воспитательниц и нянечек, школьных учительниц. Такой общий тип. Но дети рядом с ними хмуры, а многие – просто озлобленны. Конечно, идет война. Эти малыши побывали в блокаде, их вывозили через Ладожское озеро, они голодали, получали ранения и обморожения, они, завязанные в одеяла, в долгой зимней дороге в кузове машины испражнялись под себя.
Но, главное, в их среде «господствовала особая субкультура, насыщенная отсутствием гуманного общения со стороны взрослых… Можно только догадываться, что с младенцами в таких заведениях (дети НКВД-шников, осужденных за убийство Кирова и подготовку убийства Сталина – З.Н.) много не разговаривают, не агукают. Дефицит диалога явно вызвал наш первый физический недостаток – пусть не немоту, но тяжелейшее поражение слуха и речи… За провинность наших родителей с нами тоже перестали разговаривать…» Откровенное безразличие, унижения со стороны персонала вызывает у малышей ответное безразличие, фрустрацию и агрессивность.
Этих детей рано учат читать и петь, вывозят из блокады. А с другой стороны, они знают, что они «говно», «вражьи недоноски» и «вражьи выблядки». Духовная сила автора в том, что он, описывая агрессию и подлость, сформированные таким детством, не забывает рассказать об «ангелах в аду» своего детства, о стихийно возникающей в этом аду религиозности. «Нашими лучшими учителями тогда могли быть только опыт жизни без родителей и наши собственные переживания… Может быть поэтому, мы очень рано увидели в себе Человека. Только сейчас убеждаешься в том, как оказалось здорово, увидеть жизнь сначала из глубины, со дна… Но… такой метод познания жизни я бы никому не пожелал».
Можно долго цитировать, но эту вещь, первая часть которой заканчивается смертью от тифа подросших, отправленных к матерям в Алжир ребят, словами «А я с Полиной умру на станции Тимур, немного не доехав до станции Арысь…», нужно читать. Не мазохизма ради, и даже не ради поминания памяти жертв репрессий. А чтобы понять нас, сегодняшних. Потому что, хотя В. Скитневский подчеркивает, что ребята в спецдетдоме сильно отличались от ребят, живших с родителями и даже ребят из обычных детдомов, в его описаниях я узнавала свой детский сад.
Обычный детский сад начала 70-х на окраине Алма-Аты. Конечно, мои воспоминания сильно омрачаются шовинизмом, когда при молчаливом попустительстве персонала любимым развлечением нашей группы было гонять по территории садика меня – единственную в группе казашку – и кореянку Наташу, гонять и бить. Гонять с вполне актуальным сейчас в России воплем «Бей узкоглазых!»
Но дело не в моей национальности. В целом, детсадовское детство запомнилось мне своею странной двойственностью. С одной стороны, нас старались развивать, в том числе, и в игровой форме, неплохо готовили к школе и к жизни. Помню уроки рисования и игры в магазин с работающими весами, продуктами из папье-маше, игрушечными деньгами. Помню неплохой живой уголок и гирлянды из разноцветного льда, которые мы делали зимой, заливая воду в коробки из-под монпансье (привет Б. Кенжееву).
Но помню и то, что основным способом наведения порядка было унижение. Двух мальчиков из группы, страдавших даже не энурезом, а непроизвольной дефекацией во сне (не знаю, как это правильно называется) абсолютно голыми и запачканными ставили в угловую треугольную пустую ванну в санузле. Там они должны были стоять, не прикрываясь руками, пока все остальные дети, встав ото сна, ходили оправляться и умываться. Это происходило каждый день. Какими стали эти мальчики, даже трудно представить. Еще помню случай: во дворе был лягушатник, всегда сухой. Как-то в жаркий летний день, когда мы вышли на прогулку в одних трусиках, оказалось, что в бассейн залита вода. Половина детей радостно рванула плескаться. Обнаружившая это воспитательница заставила тех, кто успел намочить трусы, снять их и развесить на шведской стенке. Потом нас выстроили в два ряда лицом друг к другу, голых против одетых. Так мы простояли под солнцем всю прогулку, пока трусы не высохли.
Но самым обычным дисциплинарным средством были «фонарики». Это когда за малейшую провинность одного (например, если кто-то за обедом выплеснул нечаянно ложку супа на стол) всех поднимали, строили у стенки и заставляли 7-10 минут «крутить фонарики» – подняв руки выше головы, туда-сюда быстро поворачивать кисти рук. Руки немели и начинали опускаться. Если кто-нибудь опускал кисти ниже макушки, всей группе добавлялись 5 штрафных минут. Каждый день мы эти «фонарики» крутили не менее двух раз.
Мы не были преступниками. Не были сиротами или детьми врагов народа. Но принципы обращения с нами – унижение и групповая ответственность – шли, мне кажется, оттуда, из советской зоны. Также из зоны шло обращение с женщинами в роддомах, фрагментик которого отразился в рассказе З. Джандосовой и о котором, при желании, может порассказать любая женщина, рожавшая в советском или постсоветском роддоме (чаще всего эти воспоминания вытесняются по всем законам психоанализа).
То, что мои наблюдения не преувеличены, поняла, прочитав в книге по народной медицине письмо одной жительницы «города-колыбели революции», для всего Советского Союза олицетворявшего высокую культуру и интеллигентность: «Двадцать лет назад, когда я была совсем молодая, отправили меня рожать в Снегиревку (а это был один из лучшим роддомов Ленинграда). Ну и натерпелась я там! Это рассказать кому-нибудь из нынешних рожениц – не поверят, что было за отношение к женщинам вообще и к роженицам в частности в советское время… Смотрели на меня как на предмет, который не может ни чувствовать, ни испытывать боли, то есть ничего…»
Дело было не только в ужасающем безразличии и пофигизме персонала (и в аду встречаются ангелы), участвовавшего в таком святом (позднее, одна молодая гинеколог мне сказала: врач, поработавший в роддоме, не сможет уйти в консультацию; каждый день у тебя на глазах происходит такое чудо, это амок, это сильнее любого наркотика) и в таком ответственном процессе, где речь шла о жизни сразу двух человек. Роддом, как и детсад, представлял осколок ГУЛага, надзиратели которого «инициировали» – вводили в новый мир, в новую систему – самых беззащитных – маленьких детей и рожениц. «Инициация» – этот термин в таком страшном смысле употребил психолог Бруно Беттельхейм, на собственном опыте написавший исследование «Люди в концлагере». Исследуя эту систему, он установил ее цель – деперсонализацию, и показал, что пытки и унижения, обязательные на первом этапе, являются не результатом субъективной жестокости гестповцев, а необходимым вступительным элементом деперсонализации. Каждому заключенному с самого начала давали понять, что прежней его жизни больше не существует, он никто и ничто. Такую же роль выполняли обязательные «гигиенические процедуры», через которые проходили все попадавшие в советский роддом женщины и которые, как теперь выясняется, совсем не обязательны в чисто медицинском смысле.
Вообще, книга Беттельхейма – любопытное чтение для постсовка, знакомясь с которым начинаешь все лучше понимать свое советское детство и юность. Не хочется выглядеть мизантропом: да, мы были счастливы в советское время, но только потому, что быть счастливым – это нормальное свойство детства и юности. Да, глупостей, непрофессионализма и безразличия хватает и сейчас, но это именно глупость и безразличие. Чтобы понять разницу, стоит прочесть книгу Беттельхейма, и тогда вы поймете, что доктор наук, на закате развитого социализма перебирающий в овощехранилище картошку, которой все равно суждено сгнить, – это не просто феномен неэффективной экономики, это пережиток системы, в которой уголовникам на зоне поручалось перевоспитывать «гнилую интеллигенцию». Пишу это не из желания очернительства, возможно, кому-то эти строки помогут понять о осознать страшные эпизоды своей жизни, тем самым избавиться от комплексов.
Кто-то из русских писателей сказал, что все мы – потомки людей, имевших прямое отношение к лагерям – одни стучали, другие сидели, третьи надзирали. Никто из моих прямых предков, слава Богу, в лагере не бывал. Мои прадеды и деды погибали в восстаниях и войнах, умирали от голодного тифа, беспризорничали и росли в детдомах. Читая Скитневского, я думала о них всех. Я вспоминала свой детский сад и свою вполне благополучную школу, где еще до перестройки мои одноклассницы дрались в туалете за пацанов и макали друг друга головами в вонючий унитаз. Мы все, так или иначе, родом оттуда, из спецдетдома под названием СССР. Кто научит нас улыбаться друг другу?
2008